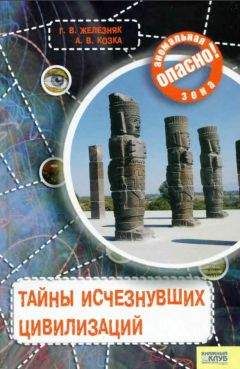Оноре Бальзак - Сочинения
Кассир (честнейший человек!) пришел узнать, не понесет ли его господин ущерб на банкротстве Фале.
– Напорот, мой добри Вольфган, я буду полючать обратно свой сто тисяча франк.
– Пошему?
– Э-э! Я буду иметь маленьки особняк, который этот бетняк Фале весь год готовиль для свой люпофниц. Я полючу весь обстановка, если предложу пьятдесят тысяч франк кредиторам; я уше дал каспатину Гарто, моему нотариусу, приказ насчет дома, потому хозяйн без теньга… Я это зналь, но не имель голова на плеч!.. Тем лутчи! Мой божественный Эздер будет хозяйка в маленки тфорец! Фале показиваль мне этот дом: что за прелесть!.. И два шага отсюда!.. Не придумать лутчи!
Банкротство Фале принудило барона идти на биржу; но он не мог покинуть улицы Сен-Лазар, не побывав на улице Тетбу; он уже страдал оттого, что несколько часов не видел Эстер; ему хотелось, чтобы она всегда была подле него. Выгода, которую он рассчитывал извлечь из наследства своего маклера, весьма облегчала его скорбь о потере четырехсот тысяч франков, истраченных этой ночью. Восхищенный возможностью сообщить своему анкелу о переезде с улицы Тетбу на улицу Сен-Жорж, где Эстер будет жить в маленки тфорец и где воспоминания не послужат помехой их счастью, он не чувствовал под ногами мостовой, он летел, как юноша, полный радужных грез. На повороте улицы Труа-Фрер погруженный в мечтания барон посреди дороги наткнулся на Европу; на ней лица не было.
– Кута ти пошель? – сказал он.
– Ох, мосье, я шла к вам… Как вы были правы вчера! Теперь я поняла, что бедной мадам лучше было бы сесть в тюрьму на несколько дней. Но разве женщины что-либо смыслят в денежных делах! Как только кредиторы прослышали, что мадам вернулась к себе, все они набросились на нас, как на свою добычу… Вчера, в семь часов вечера, мосье, к нам пришли и приклеили ужасные объявления о распродаже обстановки в эту субботу… Но все это пустяки… Мадам, сама доброта, пожелала, видите ли, оказать однажды услугу этому чудовищному человеку!
– Какой чутовишни?
– Ну, тому, кого она любила, д'Этурни. О! Он был мил. Он играл, вот и все.
– Играль краплени карт…
– Что за беда? А вы, смею спросить?.. – сказала Европа. – Что вы делаете на бирже? Не перебивайте меня. Как-то раз, когда Жорж пригрозил, что он пустит себе пулю в лоб, она снесла в ломбард все свое серебро, драгоценности, а они ведь еще не оплачены! Пронюхав, что мадам выплатила кое-что одному из кредиторов, все прочие пришли к ней и устроили скандал… Угрожают Исправительной… Ваш ангел, и на скамье подсудимых!.. Ведь даже парик на голове и тот станет дыбом!.. Мадам обливается слезами, говорит, что готова в реку броситься… Ох! Она на все пойдет.
– Если би я зашель к Эздер, прощай биржа! – вскричал барон. – А это невозмошно, чтоби я не ходиль на биржа! Потому я дольжен кое-что выиграть для нее… Ступай, успокой ее; я буду платит тольги; приду ровно в четири час. Но, Эшени, скажи, чтоби он чутошка любил меня!..
– Как чуточку? Очень… Знайте, мосье, только щедростью покоряют женское сердце… Конечно, вы, может, и сберегли бы сотню тысяч франков, позволив ей сесть в тюрьму. Но никогда бы вы не завоевали ее сердце… Ведь она мне сказала: «Эжени, он был поистине великодушен, поистине щедр… У него прекрасная душа!»
– Он так сказаль, Эшени? – вскричал барон.
– Да, мосье, своими ушами слышала.
– Тержи, вот десять луитор…
– Благодарю… Но она все еще плачет… она выплакала со вчерашнего дня столько слез, сколько выплакала святая Магдалина за целый месяц… Ваша любимая убивается, и добро бы еще из-за собственных долгов! Ох эти мужчины! Разоряют они женщин, как женщины разоряют стариков… ей-ей!
– Мушчин весь таков! Обешшаль! Эх, только говориль… Пуская он не подписывает ничефо больше. Я буду платить, но если он будет давать ишо подпись… я…
– А что вы сделаете? – сказала Европа, подбоченясь.
– Поже мой! Я не имей никакой власть над ней… Я сам займусь делами Эздер… Ступай! Ступай! Утешай ее, говори, что не пройдет месяц, как он будет полючать маленки тфорец.
– Вы поместили, господин барон, капитал на крупные проценты в сердце женщины! Знаете… я нахожу, что вы помолодели; хоть я только горничная, а часто наблюдала такие чудеса… счастья… У счастья есть какой-то свой отблеск… Если вы потратились, не жалейте… Увидите, какой это принесет доход! Прежде всего, и я сказала это мадам: она будет последней из последних, будет потаскушкой, если вас не полюбит, ведь вы ее вытаскиваете из сущего ада… Вот отойдут от нее заботы, вы ее не узнаете! Между нами, должна вам признаться; ночью она так рыдала – что прикажете делать?.. ведь дорожат все же уважением человека, который готов нас содержать… Она не могла осмелиться сказать вам все это… она хотела убежать…
– Убешать! – вскричал барон, испуганный этой мыслью. – Но биржа, биржа! Ступай, ступай! Я не пойду с тобой… Но прошу, чтоби он подходил к окна, чтоби я видел ее… Это придаст мне бодрость…
Эстер улыбнулась господину Нусингену, когда он проходил мимо ее дома, а он, тяжело ступая, удалился, прошептав про себя: «Ангел!»
При помощи какой же уловки Европа достигла столь непостижимого результата? К половине третьего Эстер закончила свой туалет, словно ожидая прихода Люсьена; она была восхитительна. Заметив это, Европа выглянула в окно и сказала: «А вот и мосье!» Бедная девушка бросилась к окну, надеясь увидеть Люсьена, и увидела Нусингена.
– Ах, какую боль ты мне причиняешь! – воскликнула она.
– Иного средства не было утешить невзначай бедного старика, который заплатит все ваши долги, – отвечала Европа. – Ведь все они будут наконец заплачены!
– Какие долги? – вскричала бедное создание, мечтавшее лишь удержать свою любовь, которую хотели отнять у нее страшные руки.
– Долги, которые господин Карлос устроил мадам.
– Как? Вот уже почти четыреста пятьдесят тысяч франков! – воскликнула Эстер.
– Прибавьте еще сто пятьдесят. Но он отлично принял все это… барон… он вытащит вас отсюда, поселит в маленки тфорец… Право, вы не так уж несчастны!.. На вашем месте, раз уж вы так крепко привязали к себе этого человека, я бы выполнила требования Карлоса, а там заставила бы подарить себе дом и ренту. Мадам, конечно, самая красивая, какую я только видела, и самая привлекательная… Но красота проходит так быстро! Я была свежа и красива, и вот… Мне двадцать три года, почти возраст мадам, а я кажусь старше лет на десять. Достаточно заболеть, и… Ну, а когда имеешь дом в Париже и ренту, не боишься, что умрешь на мостовой…
Эстер не слушала более Европу-Эжени-Прюданс Сервьен. Воля человека, одаренного талантом растления, опять погружала Эстер в грязь с тою же силою, какую этот человек положил, чтобы извлечь ее из грязи. Лишь тот, кто познал любовь во всей ее бесконечности, понимает, что человеку дано вкусить ее блаженства, лишь приобщившись к ее добродетелям. После сцены в конуре на улице Ланглад Эстер совершенно забыла о своей прежней жизни. Она жила с того времени чрезвычайно добродетельно, вся уйдя в чувство любви к Люсьену. Поэтому, желая избежать сопротивления, Карлос так искусно все подготовил, что бедной девушке, движимой преданностью, не оставалось ничего более, как изъявлять свое согласие на мошенничества либо уже совершенные, либо готовые совершиться. Это коварство, говорящее о превосходстве развратителя над своими жертвами, указывает и на те приемы, которыми он подчинил себе Люсьена. Создать роковую неизбежность, устроить подлог, подложить пороху и в решительную минуту сказать сообщнику: «Сделай одно лишь движение, и все взорвется!» Прежде Эстер, проникнутая особой моралью куртизанок, находила все эти шуточки настолько естественными, что достоинства соперницы измеряла лишь расточительностью ее любовника. Разоренные состояния – вот знаки различия этих женщин. Карлос, положившись на воспоминания Эстер, не обманулся. Все эти военные хитрости, все эти уловки, тысячи раз испробованные не только такими женщинами, но и мотами, не смущали Эстер. Несчастная чувствовала только свое унижение. Она любила Люсьена, но она должна была стать признанной любовницей барона Нусингена; в этом заключалось все. Брал ли с барона деньги в задаток мнимый испанец, строил ли свое счастье Люсьен на камнях могилы Эстер, какой ценою куплена ночь блаженства старым бароном, сколько тысячафранковых билетов выманила у него Европа более или менее искусными приемами – ничто не волновало влюбленную девушку, но в сердце ее кровоточила рана! Пять лет жила она, как непорочный ангел. Она любила, она была счастлива, она не изменила даже мыслью. И эта прекрасная, чистая любовь должна быть осквернена! Она не сравнивала своей отрадной уединенной жизни с тем позорным существованием, что ей было уготовано отныне. То не было ни расчетом, ни поэтической экзальтацией, ее переполняло одно лишь неизъяснимое, глубокое чувство: из белой она становилась черной, из чистой – нечистой, из честной – бесчестной. Но, став безупречной по собственной воле, она не могла перенести позора. Недаром она хотела броситься из окна, когда барон стал угрожать ей своей любовью. Короче говоря, Люсьен был любим беззаветно и с такой силой, с какой женщины чрезвычайно редко любят мужчину. Женщина хотя и говорит, что любит, хотя она нередко даже думает, что так, как любит она, никто еще не любил, все же она не прочь попорхать, покружиться в вальсе, полюбезничать, пленить свет своими уборами, пожинать успех во взорах воздыхателей; но Эстер совершала чудеса истинной любви, ничего не принося в жертву. Шесть лет она любила Люсьена, как любят актрисы и куртизанки, когда, вывалявшись в грязи, она томится по чистым чувствам, по самоотверженной чистой любви и преклоняются перед ее исключительностью (не следует ли изобрести новое слово, чтобы выразить понятие, столь редко встречающееся в жизни?). Древние народы Греции, Рима и Востока лишали женщину свободы; любящая женщина должна была бы сама себя лишать свободы. Итак, нетрудно понять, что покидая волшебные чертоги, где происходило это пиршество, где творилась эта поэма, и готовясь вступить в маленки тфорец старца с охладевшей кровью, Эстер испытывала род нравственного недуга. Понуждаемая железной рукой, она совершила много низостей, прежде чем успела о чем-либо подумать; но вот уже два дня сряду она предавалась размышлениям, и смертельный холод охватывал ее сердце.