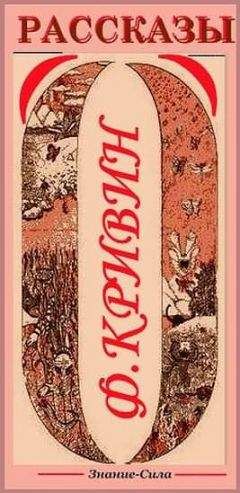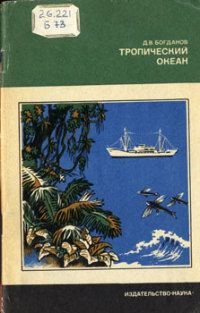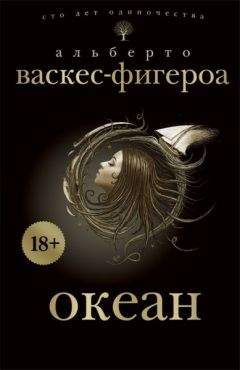Мария Романушко - В свете старого софита
Смерть кончилась. Но – не боль.
Боль только началась.
Боль только разгоралась…
* * *
Через пару дней създили с Гавром на Ваганьково.
…Мой Клоун смотрит с портрета – как из окна…
Рядом с храмом Воскресения…
Где ты теперь, Мой Клоун? В каких краях? в каких пределах?…
Ты так хорошо, так тепло улыбаешься с портрета, как будто ты – по-прежнему здесь.
Но мир накренился в каком-то надтреснутом состоянии…
Ни с кем не говорю о Вас
* * *
Пошла и уволилась из Москонцерта.
Лёниного портрета у входа уже не было…
В отделе кадров сказала, что увольняюсь потому, что у меня скоро начинаются экзамены в институте. И это была правда. Но не вся правда.
Просто я не могла себе представить, что каждый день вхожу сюда – и вижу страшное место, где висел Лёнин портрет в траурной раме… Это было выше моих сил.
Когда вышла из Москонцерта, встретила Игоря Борисовича Дюшена. Он шёл по улице. Увидел меня, обнял за плечи, спросил участливо: «Ну, как вы?» Я хотела ответить, но не смогла, что-то забулькало в горле…
Он взял меня под руку, и мы пошли к метро вместе: сквозь зной, гарь и ужас этого лета… Он молчал, и я была благодарна ему за это.
Брожу по августу Москвы…
Как странно всё, как грустно, Боже!
Вот улица, где жили Вы,
И по которой осторожно,
Как кошка в сумерках, как вор,
Ступала по камням шершавым…
Как странно заходить во двор –
И не бояться встречи с Вами…
И Роща Марьина полна
Печали пепельного лета…
Душа – полна тоски и света.
С утра и до скончанья дня
Брожу…
Все улицы Москвы
Родными полнятся шагами…
Здесь навсегда остались Вы.
О, как ищу я встречи с Вами!
* * *
Как-то вечером раздался телефонный звонок и голос, странно знакомый, но который я по телефону ещё не слышала, сказал:
– Здравствуйте. Это Валерий Каптерев. Хотел спросить: отчего вы к нам не заходите? Ведь вы сказали, что живёте совсем близко.
– Да, это так.
– Ну, так заглядывайте как-нибудь на огонёк.
– А сегодня можно?
– Конечно! Будем очень рады.
…Я шла к ним, ещё не зная, что дружба с этими людьми наполнит мою жизнь новым светом и смыслом. И откроет окна в иные измерения жизни. И подарит новое небо…
Это Сам Господь вёл меня к ним. Чтобы жизнь моя не знала пустоты. И это Лёня вёл меня. Потому что это была цепочка – от него. Та самая волшебная цепочка удивительных встреч, сцепленных одна с другой, как звенья одной цепи, которые – не разорвать. Но вынь одно звено – и всё рассыплется…
Я шла навстречу будущему, которое сказало голосом доброго старика с голубыми глазами: «Заходите на огонёк». И я шла на этот горящий впереди огонёк…
* * *
Мой второй приход к ним.
И вновь так не хотелось уходить!…
Я и не подозревала, что на ближайшие тринадцать лет это станет моим самым горячим и самым постоянным желанием: быть с этими людьми. В тот жаркий июльский вечер 72 года я нашла, наконец, свою, родную по духу, семью, о которой мечтала… которой мне так не хватало в жизни.
* * *
На что не было сил, так это на сдачу экзаменов в Литинститут. Точнее – не было желания. Вообще, ничего не хотелось. Уснуть бы… чтобы уже не просыпаться… Но я помнила его слова: «Тебе надо в Литинститут». Я твердила себе: «Он хотел этого. Он этого хотел. Этого хотел он». Да я и сама когда-то этого хотела… когда-то… как будто в другой жизни…
Мне было всё равно… Я никак не могла воскресить в себе то чувство, когда мне так хотелось в этот институт… Когда, приехав в Москву, пришла сюда, на Тверской бульвар, и стояла за оградой, глядя на ребят в скверике, как на небожителей… Теперь я сама была среди этих небожителей – по эту сторону ограды. Но никакого небожительского чувства во мне не было.
…Всё было, как во сне…
После творческого конкурса самое страшное – это собеседование. Так говорят знающие люди, которые это собеседование не прошли в прошлом году. На собеседовании тоже идёт отсев. На собеседовании ты заходишь в большую комнату, где по стеночке сидят разные поэты знаменитые, писатели, руководители творческих семинаров и преподаватели института, а тебе предлагают сесть на стульчик посреди комнаты – и это не очень уютно. Точнее – очень неприятно: сидеть в перекрестье изучающих тебя взглядов. Но мне было всё равно… Мне было до такой степени всё равно, что я даже не волновалась, меня не бросало ни в жар, ни в холод. Я была холодна, как камень.
…Всё было как во сне…
И вот, сидишь так – как на лобном месте – а тебе начинают задавать вопросы – любые, какой кому придёт в голову. О литературе, о политике, о твоей собственной жизни, о родителях, о твоих интересах… На собеседовании я узнала, что рецензировал мои стихи и рекомендовал меня к поступлению Владимир Гусев. Я мысленно поблагодарила его. Но, в общем-то, мне было всё равно… А Евгения Долматовского, который когда-то деликатно советовал мне не поступать в Литинститут, на собеседовании не было.
…Всё было, как во сне…
Через день на стене вывесили список: кто допущен до экзаменов. В этом списке была и я. Но многих по каким-то причинам отсеяли. Представляю, как этим людям было обидно: пройти творческий конкурс – и не ответить на собеседовании на какой-то дурацкий вопрос. Ерунда какая-то. По-моему, в творческом институте надо проводить только творческий конкурс – и всё. А экзаменов и собеседований – не надо.
Но в жизни всё было по-другому, и мне теперь предстояло сдать пять экзаменов. Сочинение. Русский язык устно. Русская литература устно, начиная с былин и кончая современными авторами. История СССР, от пещерных времён до сегодняшнего дня. И французский язык.
Мне так не хотелось ничего… Гавр нянчился со мной, как с маленькой, или тяжело больной. Свозил меня к своей маме, преподавательнице русского языка и литературы, чтобы она проверила: есть ли у меня пробелы в знаниях? Она проверила. Пробелов не оказалось. Тогда он повёз меня к своей двоюродной сестре Гале, преподавательнице французского языка, чтобы она проверила со своей стороны: есть ли у меня пробелы? Пробелом оказалось моё произношение. Оно было не ахти.
Но мне было всё равно…
На сочинении я выбрала тему «любимый поэт» и совершенно нахально и вызывающе писала о никому не известном и совершенно аполитичном, не от мира сего Леониде Черевичнике. К тому же, верлибристе. А в то время поэт, пишущий свободным стихом, считался чуть ли не идеологическим врагом. Кто-то мне сказал: «Ты рехнулась! надо было писать о Некрасове или о Маяковском. Зачем дразнить гусей? Можешь идти забирать документы». А я никого не дразнила. Просто написала о том, о ком хотела. И мне было совершенно всё равно, что мне поставят за это.
Но никто меня не отсеял. Почему-то. Получила почётную четвёрку – видимо, из-за какой-то лишней запятой, со мной это случается. Четвёрок было очень мало, штук пять на весь поток, пятёрок вообще ни одной, но зато много двоек и единиц. А в основном – тройки. Экзаменаторы говорили, что сочинение – самый убойный для писателей экзамен, ибо писатели совершенно не знают грамматики.
Впереди – ещё четыре экзамена. Великая скука и апатия.
Единственное слабое место у меня, как мы это выяснили, – французский язык. И Гавр взялся подтянуть моё произношение. Как ему это удалось, я не знаю. Наши занятия французским проходили на задворках моего сознания…
…Всё было, как во сне…
* * *
…Как во сне…
…В дни экзаменов утром приезжал Гавр и говорил:
– Поехали на экзамен.
– Не хочу. Нет сил.
Но Гавр брал меня за руку и вёз в институт.
Жена его с дочкой и будущим сыном жили в это время на даче. А он опекал меня, как своего третьего ребёнка. Спасибо ему. Без него я не прошла бы эту дистанцию до конца – просто махнула бы на экзамены рукой: зачем теперь это всё? Если Мой Клоун уже не порадуется за меня…
…Я входила в жёлтенький двухэтажный особнячок совершенно без всякого волнения, вообще без всяких чувств, и Гавр легонько подталкивал меня к аудитории, открывал двери – и я оказывалась внутри, и слышала голос экзаменатора: «Берите билет».
… И, как из рога изобилия, – посыпались пятёрки… Я набрала лишних четыре бала. То есть, «проходной» бал был на четыре бала ниже, чем набралось в итоге у меня.
До такой степени мне было всё равно! Так вот что, оказывается, нужно для успеха – полное равнодушие. Чтобы было всё – всё равно…