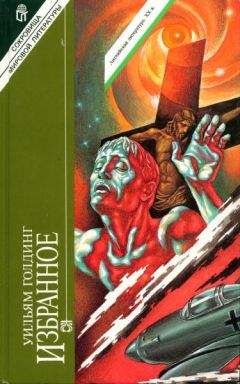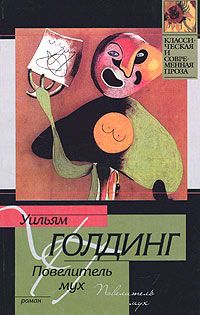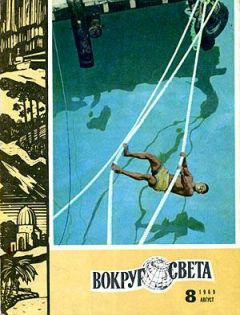Уильям Голдинг - Повелитель мух (сборник)
(Нет, нет, нет, нет, нет, нет, руки сжимают и разжимают, сжимают и разжимают край надгробной плиты.)
Однажды ноги помимо воли привели его в Пэнголлово царство, и дверь домика была открыта. (Боже, Боже, Боже, руки хватают, скручивают, рвут высокую траву.) Он бросился назад к собору, подгоняя себя, и в неурочное время поспешил в капеллу Пресвятой Девы. Губы его шептали привычные слова, но перед глазами – нет, нет, нет, нет! – стояло белое тело и непоправимо пролившаяся кровь. Он вспомнил об отце Ансельме, но понял, что бесполезно и пытаться объяснить все это Ансельму с его благородной и пустой головой. (Мне нужен другой духовник, другой духовник, другой духовник.) Но, не успев подумать это, он все забыл, потому что она появилась снова, и он увидел скорченное страданиями тело и ужасное крещение.
Он перевел дух, посмотрел на деревянную доску и сказал громко, но со смирением:
– Мой ум слаб.
И тут подоспела помощь, словно бы ангел шепнул ему на ухо: «Представляй ее себе такой, как прежде!»
И сразу же он радостно представил себе девушку, которая идет с рынка, неся корзину, и замирает перед ним в неловкой почтительности; он вскочил, засмеялся, бросился куда-то и чуть было не пробежал мимо канцеллярия. Но пришлось слушать его, улыбаться и кивать. В мыслях же Джослин перенесся на пять лет назад, в то счастливое время, когда он устроил ее брак, и, пока он вспоминал это, канцеллярий исчез. (Такой удачный, такой нужный брак, отцы обоих – верные прислужники в храме, каждый на своем месте.)
«Но ведь я-то не смеялась, правда?»
(Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, рука стискивает, стискивает, стискивает…)
Скорей к опорам – там самое важное дело, главная трудность, причина причин, бремя; и Рэчел, постаревшая, уже не такая болтливая, заглядывает ему в глаза, готовая принять осуждение, но кто может ее осудить? Замужние женщины превозносят ее, и она в самом деле приложила все силы, чтобы вернуть своего мужа. А опоры снова пели, и, прислушиваясь, он забыл о ней и понял, что с пением пришел страх и последние прихожане покинули капеллу Пресвятой Девы.
(Помилуй малых сих, малых сих, малых сих…)
Он сказал вслух:
– Но остались большие сии – строители!
И словно в ответ на эти слова с башни спустился человек, бросив работу. Он нес мешок с инструментами и на ходу натягивал на голову синий капюшон. Он прошел мимо Джослина, как мимо пустого места, и быстро зашагал в трансепт.
– Вернись!
В трансепте на месте пролома теперь была дверь, и она с грохотом захлопнулась. А на месте мастерового появился регент хора и попросил уделить ему минуту с таким жутким спокойствием, что было ясно: он вне себя от ярости. Но перед глазами Джослина стояла умершая, он не мог молиться, был удручен отступничеством мастерового и потому только зажал уши и покачал головой.
– Это необходимо. Решительно необходимо, чтобы я бросил все и был со строителями. У них нет веры, и я им нужен. Разделите все прочие обязанности между собой. А я всегда, каждое мгновение буду здесь, подле шпиля.
Он стал глядеть вверх, на башню, и не заметил, как регент ушел. Потом он поспешил к мастеру.
– Теперь я всегда буду с вами.
Роджер Каменщик стоял в своем ошейнике и взглянул на него тусклыми глазами:
– Это хорошо, милорд настоятель. Очень хорошо.
Джослин вспомнил о регенте и крикнул ему вслед:
– Вы слышали, милорд?
А опоры пели. Он подоткнул рясу и полез на башню, все выше, выше. Когда ему встречались строители, он весело заговаривал с ними, смеялся, и они смеялись в ответ – правда, не очень уверенно. Они рассказали ему про длинный канат, одержимый бесами, и он решил взглянуть сам. Да, канат в самом деле был одержим. Он свисал с башни через широкое отверстие, и конец его лежал на полу, как мертвая змея. Джослин видел, как на канате поднимали бревна, из которых наверху собирали венцы. Сверху подавали команду, снизу откликались, а потом в полном молчании бревно уплывало в воздух. Но как бы осторожно ни подтягивали канат, в какой-то миг он вдруг начинал крутиться, извиваться, биться о края отверстия, и нужен был очень точный расчет, чтобы протащить бревно, не повредив камня.
Он увидел, как Роджер Каменщик стал подниматься на башню, услышал внизу голос Рэчел, которая тоже поднялась немного, но выше лезть боялась и выкрикивала ему вслед наставления. Он сразу вспомнил ласточкино гнездо и, не дыша, миновал то место, где оно висело. Он сказал вслух своему ангелу:
– Сюда она уже никогда не поднималась.
Мастеровые услышали это, истолковали по-своему и захохотали:
– Нет! Тут уж он от нее свободен.
Джеан взглянул сверху на мастера и сказал, а мастеровые при этом прыснули со смеху, как мальчишки из певческой школы:
– Скоро она и в нужник будет его провожать.
В тот день Джослин сделал еще одно открытие: Роджер Каменщик начал пить. Он стал пристально наблюдать за ним и заметил, что Роджер даже не пьян, а словно бы весь пропитан вином. Его дыхание было почти зримым. Он то и дело прикладывался к бутылке, когда поднимался наверх, или стоял на лесах, или сидел на корточках возле растущего конуса, этой каменной кожи шпиля. Сначала Джослин пришел в ужас, как пассажир на корабле, которым командует пьяный капитан, но потом это прошло. И с тех пор он совсем перестал обращать внимание на тех, кто занимался внизу своим обычным делом.
А опоры все пели, и Джослин узнал, что только они одни и поют во всем соборе. Возмущенный причт перенес богослужения в дом епископа. Иногда Джослин, торопясь в собор, пересекал путь одному из церковников, но все обходилось благополучно. Его только провожали тяжелыми взглядами. И даже когда отец Адам сказал ему, что скоро прибудут Гвоздь и Визитатор, он только переспросил рассеянно: «Визитатор?» – и исчез на лестнице.
Хотя Джослин все время был на башне, это нисколько не помогало мастеру. Он пил – в этом теперь была какая-то неизбежность, словно в явлении природы. Порой он мрачнел и подгонял строителей грязной бранью. Когда Джослин был рядом, он изрыгал такие кощунства, что настоятель сразу забывал о белом, обнаженном теле. И тогда он забивался в угол, зажимал уши, чтобы не слышать проклятий, и Гуди возвращалась, или он вспоминал, как под ее ножками сплеталась золотая путаница следов на дворе, на рынке, в соборе, и он стонал, закрывая лицо руками:
– Она умерла. Умерла!
А порой Роджер, наоборот, становился притворно, нелепо веселым и норовил подпоить всех вокруг. Но чаще он бывал удручен, медлителен и тяжело лазил по стремянкам; а вечером, после работы, он покорно спускался вниз, где Рэчел пристегивала к ошейнику цепь и уводила его. Тогда Джослин кивал и говорил умудренно:
– Ему все равно – жить или умереть.
Но на другой день, когда она снова начала преследовать Джослина и он, чтобы от нее избавиться, стал ходить следом за Роджером, он увидел, что неверно судил о мастере. Роджеру было не все равно – жить или умереть, иначе им не владел бы столь явный страх. Невозможно было объяснить, почему страх этот такой явный. Джослин видел его так же ясно, как шатер и цепь, и он видел, что этот страх не от естества, как страх здорового зверя. Этот страх был подобен отраве, как прежний страх Роджера перед высотой. Но теперь страх толкал Роджера к людям, вызывал потребность видеть их рядом, потому что он поневоле вынужден был сносить высоту. «Он готов умереть, – думал Джослин, – он даже рад бы умереть и все-таки боится упасть. Он рад бы надолго заснуть, но только не ценой падения с высоты. Вот еще причина, почему, лазая по лесам, он то и дело прикладывается к бутылке и от него несет винным перегаром».
Таковы были те люди, чьими трудами возводился шпиль: один пил запойно, другой избегал смотреть вниз, чтобы не видеть золотой путаницы следов, остальные более или менее сохраняли здравый рассудок. А на верху башни было перекрытие из бревен, одержимое нечистой силой; но эту одержимость можно было понять, и она влекла к себе Джослина, потому что под навесом во дворе он такого не видел. Это вызывало тревожные и мучительные раздумья. В венце, уложенном поверх перекрытия, на равных расстояниях были прорезаны пазы, и в каждый паз был загнан клин. Строители уже собрали второй венец, который лег на клинья; прочный канат, прочнее якорного, опоясывал нижний венец, удерживая клинья на местах. Джослин спросил мастера, для чего это, но в ответ услышал лишь ругань, и тогда он снова отошел в угол и погрузился в свои думы. А как-то вечером, когда Роджер с угрюмым ворчанием спустился вниз, Джослин отвел Джеана в сторону и указал на клинья:
– Объясни мне, зачем это?
Но Джеан засмеялся ему в лицо:
– Тут дело нечисто.
Джослин потряс его за плечи, силы вернулись к нему.
– Я должен знать. Это не только ваше дело, но и мое.