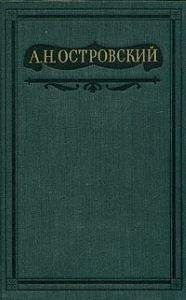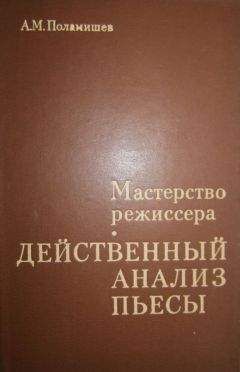Бернард Шоу - Три пьесы для пуритан
К несчастью, для подобного объяснения (которого, признаюсь, я не понимаю), в третьем акте обнаруживается, что Дик и в этом отношении истинный пуританин - человек, движимый только милосердием; ни жена и мать, ни церковь и государство, ни жажда жизни и голос плоти не в силах руководить им или изменить его намерения. В уютном доме священника, человека мужественного, гуманного, разумного, который женат на прелестной женщине моложе его двадцатью годами и который мгновенно преображается в солдата, чтобы избавить своего спасителя от смерти, - Дик оглядывается вокруг, проникаясь очарованием, покоем, святостью и в то же время понимая, что материальный комфорт не для него. Когда женщина, взлелеянная в этой атмосфере, влюбляется в него и решает (совсем как критики, которые почему-то всегда разделяют точку зрения моих сентиментальных героинь), что он рисковал своей жизнью ради нее, Дик разъясняет ей очевидную истину, что он поступил бы точно так же ради первого встречного. Не выгода и не страсть - сама его натура не позволяет ему объявить, что петлю с его шеи следует снять, чтобы накинуть ее на шею другого.
Но тогда, спрашивают критики, где же мотивировка? Почему Дик спасает Андерсона? Очевидно, что на сцене люди совершают поступки, имея на то "мотивы". В жизни все бывает иначе. Вот почему так удручающе скучны и так автоматичны заводные герои, которые начинают действовать только тогда, когда вы заводите в них пружину "мотива". Спасти кому-то жизнь, рискуя своей, это не частый случай. Однако население современного мира столь велико, что мы слышим о самых необычных событиях каждую неделю, а то и чаще. Многим из моих критиков сотни раз приходилось читать в своей газете, как некий полицейский, пожарный или няня за спасение чьей-то жизни с риском для собственной награждены медалью, благодарственной грамотой магистрата, а иногда, возможно, и похоронами на общественный счет. Но доводилось ли моим критикам читать в добавление к этому, что спасенный был мужем женщины, которую любил спасший его человек! Или что спасена была сама эта женщина? Или что спаситель знал того, кого спас, хотя бы с виду? Нет, не доводилось. Когда нам хочется почитать о делах, свершенных ради любви, к чему мы обращаемся? К хронике убийств, и тут мы редко бываем разочарованы.
Нужно ли повторять еще раз, что из-за профессиональной косности театральный критик перестает понимать связь между реальной жизнью и сценой? Что он утрачивает естественную привычку обращаться к первой, чтобы объяснять вторую? Критик, обнаруживший романтические мотивы в самопожертвовании Дика, был не просто литературным мечтателем, но и толковым адвокатом. Он указал, что Дик безусловно обожал миссис Андерсон, что именно ради нее готов был пожертвовать собственной жизнью, дабы спасти ее любимого мужа, что решительное отрицание им своей страсти было благородной ложью джентльмена, чье уважение к замужней женщине и долг по отношению к ее отсутствующему мужу наложили печать молчания на его трепещущие страстью уста. В тот момент, когда было высказано это пагубное своим правдоподобием объяснение, "Ученик дьявола" перестал быть моей пьесой и стал пьесой моего критика. И с этих пор Дик Даджен на каждом спектакле подтверждал правоту моего критика тем, что, тихонько заняв место позади миссис Андерсон, он вслух начисто отрицал свою любовь к ней и в то же время молча выражал свою страсть, украдкой запечатлевая печальный поцелуй на ее локоне. Я же в неведении всего этого бродил тогда по улицам Константинополя. Когда я вернулся, было уже поздно. Мои личные отношения с критиком и актером удержали меня от проклятий в их адрес. У меня не было даже возможности публично заявить, что я их прощаю. Они желали мне добра. Но если им когда-нибудь придется написать пьесу, дай бог, чтобы разъяснял ее я! [Когда я отдал эти страницы в печать (сентябрь 1900 года), критики в Йоркшире осудили, словно какое-то святотатство, появление на сцене их театра Дика Даджена, воплощаемого Форбс-Робертсоном. "Законченный негодяй" - так аттестовали они этого Дика. Подобный случай стоит запомнить, ибо он свидетельствует, как крепко спит моральное чувство в людях, вполне удовлетворенных общепринятыми формулами достойного поведения.]
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ШЕКСПИР?
Что касается остальных пьес этого тома, то в применении к ним его заглавие менее понятно, потому что Юлий Цезарь, Клеопатра и леди Сесили Уайнфлит на первый взгляд политически с пуританизмом не связаны. Само имя Клеопатры сразу наводит на мысль о трагедии Цирцеи, с той ужасной разницей, что античный миф правильно говорит о Цирцее, обращающей героев в свиней, тогда как современная романтическая условность заставила бы ее обращать свиней в героев. Шекспировских Антония и Клеопатру совсем не приемлет истинный пуританин, а на нормального рядового гражданина они действуют как-то удручающе: Шекспир, правдиво обрисовав вначале погрязшего в разврате солдата и обыкновенную распутницу, в чьих объятиях погибают такие мужчины, затем вдруг могучей властью своей риторики и сценического пафоса придает театральную возвышенность злосчастному окончанию этой истории, внушая глупым зрителям, что его герои поступили красиво, отдав все - весь мир - за любовь. Такую фальшь не может вытерпеть никто, кроме действительно существующих антониев и Клеопатр (их можно встретить в любом кабаке), которые, разумеется, были бы рады, если бы какой-нибудь поэт преобразил их в бессмертных любовников.
Но горе поэту, который снизойдет до подобной глупости! Человек, который видит жизнь в истинном свете, а истолковывает ее романтически, обречен на отчаяние. Как хорошо знакомы нам вопли этого отчаяния! "Суета сует и всяческая суета", - стонет проповедник, когда жизнь в конце концов доказывает ему, что Природу не заставишь танцевать под дудку его морали. А столетия спустя Теккерей продолжает выть на луну все в тех же выражениях. "Дотлевай, огарок", - восклицает Шекспир в своей трагедии о современном поэте, представленном в роли убийцы, совещающегося с ведьмами. Но пришло время, когда иссякло наше снисхождение к писателям, которые, встав перед вопросом, что делать - то ли отвернуться в отчаянии от жизни, то ли вышвырнуть вон негодные моральные кухонные весы, на которых они пытаются взвешивать вселенную, - суеверно цепляются за весы и тратят остаток своей жизни, притворяясь, что презирают ее, на то, чтобы отравлять сознание людей.
Даже впав в пессимизм, мы можем выбирать между интеллектуальной честностью и обманом. Хогарт рисовал распутника и шлюху, не восславляя их конца. Свифт, принимая наш моральный и религиозный кодекс и исходя из него, устами императора Бробдингнега вынес нам неумолимый приговор и изобразил человека в образе йэху, возмущающего всем своим поведением лошадь, более благородную, чем он. Стриндберг, единственный ныне живущий подлинный продолжатель Шекспира в драме, показывает, что самка йэху, с точки зрения романтического стандарта, куда подлее, чем одураченный и порабощенный ею самец. Я уважаю таких решительных авторов трагикомедий: они последовательны и преданы истине; они прямо ставят перед вами альтернативу - либо признать основательность их выводов (и тогда оставаться в живых - трусость), либо же согласиться, что ваш способ судить о человеческом поведении абсурден. Но я не чувствую никакого уважения к Шекспирам и Теккереям, когда они смешивают все представления в одну кучу и, убив кого-нибудь в финале, затем, словно гробовщик, протягивают вам натертый луком носовой платок, исторгая у вас слезы чувствительной фразой вроде: "И ангелы с песнопением будут сопровождать тебя к вечному покою", "Adsum" ["Я предстаю..." - начало грегорианской молитвы.] или что-нибудь в таком же роде. Эта сентиментальщина, возможно, производит впечатление на трезвенников, напивающихся чаем, но не на меня.
Кроме того, у меня имеется профессиональное возражение против того, чтобы делать сексуальное безумство темой трагедии. Опыт учит, что оно производит впечатление, только когда подается в комическом свете. Мы можем принять миссис Куикли, закладывающую свое блюдо из любви к Фальстафу, но не Антония, из любви к Клеопатре бегущего с поля битвы при Акциуме. Если уж это необходимо, пусть сексуальное безумство будет предметом изображения в реалистическом повествовании, объектом критики в комедии, поводом для лошадиного ржания сквернословов. Но требовать, чтобы мы подставляли душу его разрушительным чарам, поклонялись ему и обожествляли его, и внушать нам, что только оно одно придает ценность нашей жизни, - чистая глупость, доведенная до эротического помешательства: по сравнению с ней тупое пьянство и нечистоплотность Фальстафа высоконравственны и почтенны. Тот, кто думает найти на страницах моей пьесы Клеопатру в виде Цирцеи, а Цезаря - в виде свиньи, пусть лучше отложит в сторону книгу и тем избавит себя от разочарования.
В Цезаре я показываю характер, уже показанный до меня Шекспиром. Но Шекспир, так глубоко понимавший человеческую слабость, никогда не понимал, что такое человеческая сила цезаревского типа. Его Цезарь - это общепризнанная неудача; его Лир - непревзойденный шедевр. Трагедия разочарования и сомнения, отчаянной борьбы за то, чтобы удержаться на зыбкой почве, трагедия, возникшая в результате глубочайших наблюдений над жизнью и тщетных попыток приписать Природе честность и нравственность; трагедия воли, безверия и острого зрения, воли колеблющейся и слишком слабой, чтобы притупить остроту зрения, - из всего этого создается Гамлет или Макбет, всему этому бурно аплодируют литературно образованные джентльмены. Но Юлия Цезаря из этого не создашь. Цезарь был вне возможностей Шекспира и недоступен пониманию эпохи, у истоков которой стоял Шекспир и которая теперь быстро клонится к упадку. Шекспиру ничего не стоило принизить Цезаря - это был просто драматургический прием, с помощью которого он возвысил Брута. И какого Брута! Законченного жирондиста, отраженного в зеркале шекспировского искусства за два столетия до того, как он созрел в действительности, стал ораторствовать и красоваться, пока ему, наконец, не отрубили голову более грубые антонии и октавии нового времени, которые, по крайней мере, понимали, в чем отличие между жизнью и риторикой.