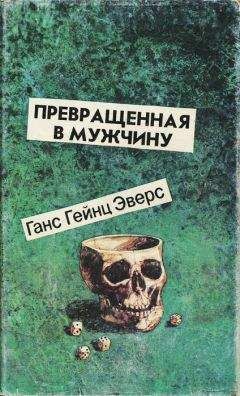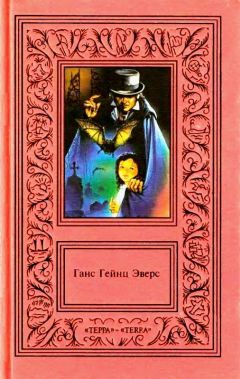Уильям Фолкнер - Авессалом, Авессалом !
— Ладно, — сказал Шрив. — Продолжай.
— Говорят тебе, что он все оборвал, — сказал Квентин.
— Слышу. Оборвал что? Он был помолвлен, потом все оборвал, и тем не менее у него была жена, которую он позже бросил, — так, что ли? Ты говорил, будто он не помнил, как приехал на Гаити, не помнил, как попал в дом, окруженный черномазыми, а теперь ты хочешь мне сказать, будто он даже не помнил, как женился? Что он обручился, потом решил все оборвать, но в один прекрасный день обнаружил, что не только ничего не оборвал, а наоборот, уже женат? И ты еще утверждаешь, что он был целомудрен?
— Оборвал — это значит умолк, оборвал свой рассказ, — отвечал Квентин. Он сидел неподвижно, и слова его, казалось, были обращены (если он вообще к чему-нибудь обращался) к письму, лежавшему на столе между страницами раскрытой книги, по обе стороны которой лежали его руки. Сидевший напротив Шрив набил трубку и снова ее выкурил. Белесый пепел из перевернутой вверх дном головки веером просыпался на стол перед скрещенными голыми руками Шрива, который, казалось, одновременно и опирался ими о стол, и, прижав их к груди, пытался согреться — было всего одиннадцать часов, но комната уже начала остывать; к полуночи батареи будут теплыми лишь настолько, чтоб не замерзли трубы, а он еще должен пойти в спальню (сегодня вечером он не будет делать дыхательных упражнений возле открытого окна), откуда вернется сначала в купальном халате, потом в пальто, натянутом на халат, и с пальто Квентина, переброшенным через руку. — Он просто сказал, что обручился, — продолжал Квентин, — а потом оборвал свой рассказ. Просто оборвал, сказал дедушка, раз и навсегда, словно все было исчерпано, говорить больше было не о чем, и за бутылкой виски один собеседник не мог услышать от другого больше ничего интересного. Может, так оно и было. — Он (Квентин) сидел, опустив голову. Он все еще говорил тем же странным, глухим, даже чуть-чуть сердитым голосом, и потому Шрив с самого начала следил за ним с пристальным вниманием и любопытством — выражение это на его физиономии ученого херувима еще больше усиливали, а возможно, даже создавали его очки. — Сатпен просто-напросто поднялся, посмотрел на бутылку виски и сказал: «На сегодня хватит. Нам надо выспаться — завтра рано вставать. Может, нам удастся поймать его, пока он еще не успеет очухаться».
Но это им не удалось. Они поймали его — я имею в виду архитектора — только к вечеру, да и то лишь потому, что он повредил себе ногу, пытаясь с помощью своей архитектуры переправиться через реку. Но на сей раз он допустил ошибку в расчетах, и тут собаки и черномазые его затравили, и, вытаскивая его наружу, черномазые подняли страшный шум. По словам дедушки, черномазые, наверное, решили, что, совершив побег, архитектор добровольно отказался от своего права быть запретной пищей, совершив побег, он добровольно предложил черномазым гамбит, который они, пустившись за ним в погоню, приняли, а поймав его, выиграли партию, и что теперь им позволят его зажарить и съесть, причем обе стороны — и победители и побежденный — примут это, как и полагается по правилам игры, мужественно, без всякой горечи и обиды. Все участники погони, которые накануне вечером уехали домой, теперь вернулись, кроме троих; они захватили с собой и других, так что теперь, говорил дедушка, их было даже больше, чем в первый день. Они вытащили его из пещеры на берегу реки, и вот перед ними предстал этот маленький человечек во фраке с оторванным рукавом; когда он упал в реку, его расшитый цветами жилет был безнадежно испорчен водой и глиной; сквозь разорванную штанину видно было, что он перевязал ногу лоскутом от рубашки, тряпка пропиталась кровью, нога распухла, а шляпа бесследно исчезла. Ее так и не смогли отыскать, и поэтому в день его отъезда, когда постройка дома закончилась, дедушка подарил ему новую шляпу. Это было у дедушки в конторе, и дедушка сказал, что архитектор взял новую шляпу, посмотрел на нее и заплакал... этот маленький изможденный человечек, с диким взглядом, заросший двухдневной щетиной; когда его, словно дикую кошку, вытаскивали из пещеры, он, несмотря на раненую ногу, отчаянно сопротивлялся; собаки заливались лаем, черномазые кричали и гикали в радостном предвкушении жуткого пира — они, наверно, думали, что, раз погоня длилась больше суток, правила игры сами собою отпадут и им можно будет съесть его сразу, не дожидаясь, пока он сжарится; в конце концов Сатпен перешел вброд реку, разогнал палкой собак и черномазых, и архитектор остался один — ничуть не испуганный, он только слегка задыхался, и лицо его слегка исказилось от боли, потому что негры в пылу схватки задели его раненую ногу, и тут он произнес длинную речь на французском языке и притом такой скороговоркой, что, по словам дедушки, даже другой француз навряд ли бы все в ней понял. Но звучала она просто замечательно, и, по словам дедушки, даже он, да и все они, сразу поняли, что архитектор вовсе не просит прощения; это была замечательная речь, сказал дедушка; он сказал, что Сатпен повернулся к нему, но он (дедушка) уже подошел к архитектору и протянул ему откупоренную бутылку виски. И дедушка увидел глаза на изможденном лице, отчаянные, безнадежные, но и неукротимые, непобежденные глаза, потому что все равно они его не одолели — пусть он двое суток бродил по темному лесу, увязая в болотах не зная ни отдыха, ни сна, пусть ему было нечего есть' некуда идти, негде приклонить голову, пусть заранее зная, что его ждет поражение, он держался только волею к победе — все равно они его не одолели; и он взял бутылку маленькой, как у енота, грязной рукой, поднял другую руку, словно хотел приложить ее к шляпе, но вспомнил, что шляпы нет, и безнадежно махнул рукой — по словам дедушки, этот жест просто невозможно было описать, казалось, он собрал в одну горсть все неудачи и невзгоды, какие когда-либо выпадали на долю рода человеческого, и, как щепотку пыли, швырнул их через голову назад, поднес к губам бутылку, отвесил поклон сначала дедушке, потом всем остальным, — образовав кружок, они смотрели на него, сидя верхом на своих лошадях, — и отхлебнул из бутылки не только первый в своей жизни глоток чистого, неразбавленного виски, но глоток, какого он вообще ни при каких обстоятельствах не мог выпить — так индийский брамин ни за что не поверит, что может попасть в положение, при котором он сможет унизиться настолько, чтобы есть нечистое собачье мясо.
Квентин умолк. Шрив тотчас сказал: «Ладно. Можешь не говорить, что он оборвал рассказ. Просто продолжай, и все». Но Квентин заговорил не сразу — ровный, странно безжизненный голос, склоненная голова, расслабленное тело — он не шевелился, только дышал; они оба не шевелились, только дышали; оба были молоды; родившись в один год на разных концах одного континента — один в Альберте[61], другой в Миссисипи, они как бы претерпели некое географическое перевоплощение, оказались каким-то образом связанными воедино этой Трансконтинентальной Трубой, этой Рекою, которая не только протекает по физической почве, чью геологическую пуповину она собой являет, не только питает духовную жизнь обитающих вокруг нее существ, хотя некоторые из них, как, например, Шрив, никогда ее не видали, она сама не что иное, как Окружающая Среда, для которой не существует никаких градусов температуры и широты, — они, эти двое, еще четыре месяца назад не подозревавшие о существовании друг друга, теперь спали в одной комнате, ели за одним столом, читали одни и те же учебники, штудируя начальный университетский курс — эти двое теперь смотрели друг на друга через освещенный лампой стол, а на нем лежал испещренный каракулями лист бумаги, этот бренный ящик Пандоры[62], из которого, презрев логику, вырвались на свободу свирепые демоны и джинны, заполнив эту уютную монашескую келью, эту призрачную студеную обитель чистой мысли. «Ничего, — сказал Шрив. — Продолжай, и все».
— Это заняло бы тридцать лет, — заметил Квентин. — Сатпен только через тридцать лет рассказал дедушке, что было дальше. Может, он был слишком занят. Ему некогда было разговаривать, потому что все время уходило на осуществление его замысла, и единственным его развлечением была борьба с дикими черномазыми на конюшне, где гости, пробравшись по задам, привязывали лошадей, чтоб их не увидели из дома — ведь он теперь был женат, дом был закончен, а его самого уже успели арестовать за то, что он украл всю обстановку, а потом выпустили, так что теперь все было в порядке, в доме была жена и двое, нет, трое детей, земля была расчищена и засеяна семенами, которыми ссудил его дедушка, и он теперь все богател и богател...
— Да, — сказал Шрив. — Этот мистер Колдфилд; что у них там было?
— Не знаю, — отвечал Квентин. — Никто точно не знал. Кажется, речь шла о каком-то коносаменте[63]; он каким-то образом уговорил мистера Колдфилда воспользоваться его кредитом; это было одно из тех дел — в случае, если выгорит, ты молодец, нет — ты меняешь фамилию и перебираешься в Техас; и отец говорил, что мистер Колдфилд, наверно, сидел в этой своей лавчонке и видел, как его товар, некогда умещавшийся в одном фургоне, примерно каждые десять лет удваивается или, по крайней мере, не уменьшается; он всегда видел такую возможность, да только совесть (не робость — отец говорил, что он был совсем не робкого десятка) ему не позволяла. А тут является Сатпен и предлагает ему это дело, и если оно выгорит, они с мистером Колдфилдом делят добычу, а если нет, он (Сатпен) берет всю вину на себя. И мистер Колдфилд на это пошел. Отец говорит, будто мистер Колдфилд не верил в успех, не верил, что они выйдут сухими из воды, но никак не мог отказаться от этой мысли и потому решил, что, если они попытаются и потерпят неудачу, он (мистер Колдфилд) сможет наконец выбросить это из головы, а если все окончательно провалится и их поймают, мистер Колдфилд настоит на том, чтобы взять на себя свою долю вины во искупление греха, который он все эти годы мысленно совершал. Ведь мистер Колдфилд никогда не верил, что дело выгорит, и потому, когда он увидел, что оно вот-вот выгорит и даже уже выгорело, отказался от своей доли прибыли — самое меньшее, что он мог сделать, — вот почему, убедившись, что дело в конце концов выгорело, он возненавидел не Сатпена, а свою совесть, свою совесть и землю, страну, которая создала его совесть, а потом предоставила ей возможность заработать эти огромные деньги, и совести не осталось ничего, кроме как от этих денег отказаться; он так сильно возненавидел эту страну, что даже обрадовался, видя, как она все больше и больше приближается к неизбежной роковой войне; отец говорил, что он даже готов был вступить в армию янки, да только он не был рожден солдатом и знал, что либо погибнет в бою, либо умрет от лишений и потому не доживет до того дня, когда Юг поймет: пришла пора расплатиться за то, что он возвел здание своей экономической системы не на твердой скале суровой добродетели, а на зыбучих песках беспринципного приспособления к обстоятельствам и разбойничьей морали. И вот он сделал единственный шаг, какой только мог измыслить, чтоб выразить свое неодобрение тем людям, которые переживут войну и вследствие этого будут тоже испытывать муки совести...