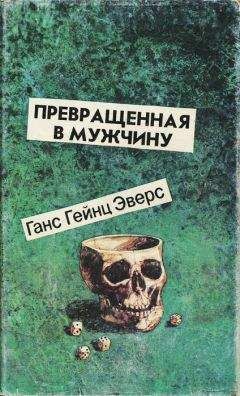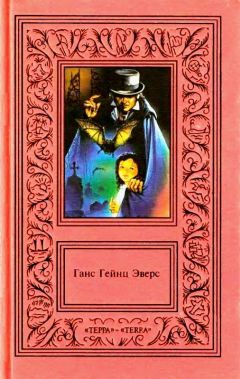Уильям Фолкнер - Авессалом, Авессалом !
В конце концов он проголодался. Он вышел из дому еще до обеда, а теперь в его тайнике было уже темно, хотя он видел, что солнце все еще освещает верхушки деревьев вокруг. Но желудок говорил ему, что уже поздно, а когда он придет домой, будет еще позже. И вот тут-то, по его словам, он начал думать Домой. Домой и сначала ему показалось, что он хочет засмеяться, и он продолжал уверять себя, будто смеется, даже когда понял, что это вовсе никакой не смех; домой, подумал он, когда вышел из лесу, приблизился к своей лачуге и увидел прогнившие необтесанные бревенчатые стены, просевшую прохудившуюся крышу — никто и не думал заменять недостающие дранки, а под те места, где крыша протекала, просто подставляли тазы и ведра; пристройку, служившую кухней, — она была в самый раз, потому что в сухую погоду никто не замечал, что печка без трубы, а когда шел дождь, ею просто не пользовались; во дворе он увидел сестру — склонившись над корытом, она мерно сгибала и разгибала спину; на ней было бесформенное ситцевое платье, стоптанные отцовские башмаки без шнурков хлопали ее по голым ногам; широкозадая, как корова, она равнодушно и тупо выполняла свой неблагодарный труд, тяжелую, доведенную до своей грубой первоосновы бессмысленную работу, которую способна выдержать лишь тупая бессловесная тварь, и только теперь сказал он, он впервые задался вопросом, что сказать отцу, когда тот спросит, выполнил ли он поручение, сказать ему правду или соврать — ведь, если он соврет, обман может тотчас же открыться: хозяин, наверно, уже послал черномазого узнать, почему отец не сделал, что ему было велено, и даже ничем не отговорился — если в этом состояло поручение, в чем (зная своего отца) он был почти уверен. Но отец еще не возвращался, и пока все обошлось. Зато сестра, казалось, только и ждала — не дров, а того, что он придет и даст ей возможность пустить в ход свои голосовые связки, и не успел он появиться, как она тут же набросилась на него с криками, требуя, чтоб он принес ей дров; он не отказывался, не возражал, он просто ее не слушал, не обращал на нее внимания, потому что все еще думал. Потом пришел отец, сестра на него пожаловалась, и старик отправил его за дровами; его не спросили о поручении ни за ужином, ни когда он улегся на тюфяк — лечь в постель означало просто растянуться на тюфяке, — однако он не уснул, а просто лежал, подложив под голову руки, но о поручении опять не было речи, и он так и не мог решить — соврать или нет. Ведь, как он говорил дедушке, самое страшное до него еще не дошло; он просто лежал, а те двое, расположившись поудобней у него внутри, не перебивая друг друга, спокойно, рассудительно и беззлобно продолжали свой спор: Но я могу его убить. — Нет. От этого не будет никакого проку. — Что ж нам тогда делать? — Не знаю; — а он, по его словам, без особого любопытства прислушивался, а потом даже и слушать перестал, хотя слова все еще доходили до его сознания. В голове его теснились совсем непрошеные мысли, они возникли сами по себе, потому что хотя они и были вполне естественны для мальчишки, для ребенка, он не обращал никакого внимания и на них, потому что всякому мальчишке пришло бы в голову то же самое, и ему было ясно: чтобы сделать то, без чего он не сможет жить в ладу с самим собой, он должен сначала все хорошенько обмозговать, как подобает мужчине, и вот он думал Черномазый так и не дал мне ничего ему сказать, и теперь он (опять-таки не черномазый) ничего про это не узнает, а того, что надо было сделать, теперь никто не сделает, и он про это тоже не узнает, а когда узнает, то будет слишком поздно, ну и поделом ему: чего он своему черномазому велел такими делами заниматься, а вдруг меня послали сказать, что у него горит конюшня или дом, а черномазый и тогда не дал бы мне и слова вымолвить, его предупредить. А потом, говорил он, он вдруг перестал думать, а вроде как бы крикнул, да так громко, что могли услышать сестры на другом тюфяке и храпевший спьяну отец с двумя малышами на кровати Он так и не дал мне ничего сказать, а папаня так и не спросил меня, сказал я ему или нет, и потому он вовсе не знает, что папаня хотел ему чего-то передать; так выходит, ему все равно, узнает он про это или нет, а папане и подавно; выходит, я туда пришел, только чтобы тот черномазый велел мне больше никогда не подходить к ихней парадной двери; и выходит, если б я ему сказал, ему бы это не помогло, а если б не сказал, ему бы это не повредило; вот и выходит, что я ничем на свете не могу ни помочь ему, ни повредить. И вот, рассказывал он, произошел как бы взрыв — яркая ослепительная вспышка, она появилась и исчезла, не оставив за собой ни пепла, ни других следов; перед ним открылась бесконечная плоская равнина, посреди которой, словно памятник, торчала суровая глыба его нерушимой невинности, и эта невинность поучала его так же спокойно, как разговаривали те двое, она использовала его же сравнение с ружьем, и когда она говорила они вместо он, это значило гораздо больше, чем все вместе взятые ничтожные людишки, которые могут целый день валяться в гамаках без башмаков; и он размышлял: «Если ты задумал воевать с теми, у кого есть хорошие ружья, ты должен первым делом раздобыть себе ружье, хотя бы и похуже, чем у них, — взять его взаймы, украсть или смастерить сам, верно?» — и отвечал себе: «Верно. Да только дело не в ружье. Если ты задумал с ними воевать, тебе надо, чтоб у тебя было все, что есть у них, все, что позволяет им поступать так, как поступил тот человек. Надо, чтоб у тебя была земля, черномазые и красивый дом, и тогда ты сможешь с ними воевать. Понял?» — и снова согласился: «Понял». В ту ночь он ушел. Он проснулся до рассвета, встал с постели точно так же, как и лег: просто поднялся с тюфяка и на цыпочках вышел из дома. Он больше никогда не видал своих родных.
— Он отправился в Вест-Индию. — Квентин не шелохнулся, даже не поднял головы, в задумчивости склоненной над раскрытым письмом; оно лежало на раскрытом учебнике, по обе стороны которого лежали на столе его руки; одна половина листа, в том месте, где проходила пересекавшая его складка, поднялась кверху под косым утлом и стояла, ни на что не опираясь, словно уже наполовину проникла в тайну преодоления силы тяжести. — Так сказал сам Сатпен. Они с дедушкой теперь сидели на бревне, потому что собаки потеряли след. То есть они нашли дерево, с которого он (архитектор) никак не мог слезть, но на которое он, несомненно, забирался: они нашли шест, к которому были привязаны его подтяжки — с его помощью он и залез на дерево; правда, сперва они никак не могли взять в толк, при чем тут подтяжки, и только часа через три их осенило, что архитектор использовал свою архитектуру и физику, чтобы от них ускользнуть, — так человек в минуту смертельной опасности всегда прибегает к тому, что умеет лучше всего: убийца — к убийству, вор — к воровству, лжец — ко лжи. Если даже он (архитектор) не мог знать, что Сатпен приведет собак, про диких черномазых он знал и потому залез на это дерево, втащил за собою шест, рассчитал нагрузку, дистанцию и траекторию и перепрыгнул на ближайшее соседнее дерево, преодолев расстояние, какого не смогла бы преодолеть никакая белка, и, перепрыгивая с дерева на дерево, прошел не меньше полумили, прежде чем снова ступил ногою на землю. Только через три часа один из диких черномазых (собаки ни за что не отходили от дерева, они были уверены, что он там сидит) отыскал место, где он спустился вниз. И вот они с дедушкой сидели на бревне и разговаривали; тем временем другой черномазый сбегал обратно в лагерь за едой и остатками виски, потом они затрубили в рог, созвали остальных и поели, а пока они ждали, он рассказал дедушке, что было дальше.
Он отправился в Вест-Индию. Так сказал сам Сатпен; он не говорил, как он узнал, где Вест-Индия находится, как он добрался до места, где стояли суда и как попал на одно из них; не говорил, понравилось ли ему море, не рассказывал, как тяжело живется морякам, а ведь ему, мальчишке четырнадцати или пятнадцати лет, который прежде никогда не видел океана и вышел в море в 1823 году, наверняка пришлось там тяжко. Сидя с дедушкой на бревне — собаки между тем все лаяли и лаяли под деревом, где, как они думали, засел архитектор, потому что куда ж он мог деваться, — он просто сказал: «И вот я отправился в Вест-Индию», — точно так же тридцать лет спустя, сидя у дедушки в конторе (на этот раз он был в своей великолепной форме, которая, правда, слегка замусолилась и поизносилась за три года войны; в кармане позвякивали монеты, борода тоже никогда не была краше — борода, тело и ум его достигли той высшей точки, когда соединяются воедино все качества, составляющие зрелого мужчину, и когда он может наконец сказать Я добился всего, чего хотел, и при желании могу теперь остановиться, и никто на свете, даже я сам, не упрекнет меня в лености — возможно, это и есть та самая минута, которую Судьба всегда выбирает, чтобы огреть тебя по башке, да только эта высшая точка кажется такой надежной и прочной, что сразу не заметишь, как покатился под уклон, и вот, слегка вскинув голову — никто точно не знал, то ли он кому-то подражает, то ли позаимствовал эту позу из той самой книжки, по которой учил слова и выспренние цветистые обороты; он, говорил дедушка, уснащал ими свою речь, даже когда просил спичку, чтобы раскурить сигару, или предлагал сигару; причем в этом не было ничего суетного, ничего смешного, благодаря невинности духа, которой он так никогда и не утратил, ведь после того, как той ночью она наконец указала ему, что делать, он и думать о ней забыл и знать не знал, что она еще при нем осталась), он сказал дедушке — заметь себе: просто сказал, он не искал никаких извинений или сочувствия, ничего не объяснял и не оправдывал; он просто сказал дедушке, что отстранил свою первую жену, все равно как поступали короли в XI и XII веке: «Я убедился, что она, без всякой провинности со своей стороны, не может и никогда не сможет споспешествовать и благоприятствовать выполнению цели, которую я себе поставил, и потому я ее обеспечил и отстранил», — и вот, сидя с дедушкой на бревне в ожидании, когда черномазые возвратятся с остальными гостями и принесут виски, он тем же тоном продолжал: «Итак, я отправился в Вест-Индию. За одну неполную зиму я получил начатки образования, благодаря которым узнал о существовании Вест-Индии и уяснил себе, что она в высшей степени отвечает моим намерениям». Он не помнил, каким образом попал в школу. Вернее, почему отец вдруг ни с того ни с сего решил послать его учиться; какое смутное виденье могло возникнуть в той смеси паров спиртного, расправ над черномазыми и всевозможных уловок с целью уклониться от работы, которая образовалась в голове старика — едва ли это были честолюбивые мечты о славе, о том, чтобы сын его занял более высокое положение в обществе, или минутная вспышка безотчетного отвращения к лачуге, сквозь дырявую крышу которой заливало дождем не один десяток семей, как и они, приходивших, ютившихся там и исчезавших, не оставив за собой никакого следа, ничего, ни грязных тряпок, ни черепков; нет, скорее, это была черная зависть к двум или трем плантаторам, с которыми ему временами приходилось сталкиваться. Как бы там ни было, одну зиму он почти три месяца подряд ходил в школу — подросток лет тринадцати или четырнадцати сидел в комнате, битком набитой ребятишками; он был на три или четыре года старше любого из них и на столько же лет от них отстал; он наверняка не только на целую голову перерос самого учителя (а что за учитель обучал детей в сельской школе, состоящей из одной-единственной комнатушки в самом сердце плантаций Тайдуотера, нетрудно себе представить), но и вообще казался взрослее его; кроме здравого смысла, настороженности и сдержанности горца, он, несомненно, принес с собой в школу врожденное отвращение ко всякой дисциплине, о которой он даже и не подозревал, как, впрочем, сперва не подозревал и о том, что учитель его побаивается. Нельзя назвать это своеволием или гордостью; это была скорее воспитанная уединением уверенность в себе — ведь по крайней мере некоторые из его предков были горцами (мать его родилась в горах Шотландии и, судя по тому, что он рассказывал дедушке, так никогда и не научилась толком говорить по-английски); как бы там ни было, эти его свойства запрещали ему снисходить до заучивания правил арифметики и тому подобной сухой материи, но зато не мешали внимательно слушать, когда учитель читал вслух. «В школе, — рассказывал он дедушке, — я мало чему научился, не считая того, что все, находящееся в пределах возможностей человека, большинство хороших и дурных деяний, влекущих за собой хвалу, посрамление или награду, уже совершены, и узнать о них можно только из книг. Поэтому, когда он нам читал, я слушал. Теперь я понимаю, что он по большей части прибегал к чтению вслух, лишь убедившись, что все ученики того и гляди встанут и разбегутся. Но что бы ни заставляло его нам читать, я все равно слушал, хотя и не знал, что услышанное подготовит меня к осуществлению моего позднейшего замысла гораздо лучше, нежели вся таблица умножения, которую я мог бы выучить по книжке. Так я узнал про Вест-Индию. Не про то, где она расположена, — знай я тогда, что эти сведения могут позднее сослужить мне службу, я бы узнал и про это тоже. А узнал я то, что есть на свете местность под названием Вест-Индия, куда бедняки уплывали на кораблях и где они богатели — как именно, неважно, коль скоро человек был умен и смел; последним качеством я, как я думал, был наделен, что же до первого, то, как я думал, если его можно приобрести в школе жизни усилием воли и энергией, я непременно его приобрету. Помню, как однажды вечером после уроков я дождался, вернее, подстерег учителя; это был плюгавый человечек, всегда как бы покрытый пылью, словно он родился и всю жизнь прожил на чердаках и в чуланах. Помню, как при виде меня он отпрянул и я тогда подумал, что, если б я его ударил, он даже не посмел бы крикнуть, послышался бы только звук удара и взвились клубы пыли, какие поднимаются в воздухе, когда выколачивают висящий на веревке половик. Я спросил его, правда ли то, что он нам читал про людей, которые поехали в Вест-Индию и там разбогатели. «Конечно, правда, — отвечал он, отпрянув. — Ты же слышал, что это написано в книге». — «А почем я знаю, что вы читаете то, что написано в книге?» — спросил я его. Понимаете, я был тогда самым настоящим неучем, деревенщиной. Я даже не умел еще прочитать свое собственное имя и, хотя ходил в школу уже почти три месяца, смею вас уверить, что знал не больше, чем в тот день, когда впервые переступил порог классной комнаты. Но, понимаете, мне необходимо было это узнать. Быть может, человек закладывает основу своего будущего не одним способом, а несколькими, строит в расчете не только на свое тело, которым он сможет располагать и завтра, и в будущем году, но и на поступки, и на неотвратимо вытекающие из них последствия, которых его слабые чувства и разум не могут предвидеть, но которые он через десять, а то и через двадцать или тридцать лет предпримет, должен будет предпринять, чтобы эти поступки пережить, — возможно, именно такое безотчетное побуждение и заставило меня схватить его за руки в ту минуту, когда он от меня отпрянул (я, в сущности, не подвергал сомнению его слова. Я думаю, что даже в то время, даже мальчишкой, я понял, что он не мог этого выдумать, что он был неспособен обмануть даже малого ребенка. Но, понимаете, мне надо было знать все это точно, я должен был во что бы то ни стало узнать все это точно. А у меня под руками был только он, и больше ничего) и, в ужасе глядя на меня, старался вырваться, а я крепко держал его и спокойно, совершенно спокойно — ведь мне надо было только узнать — говорил: «А что, если я туда поеду и увижу, что это неправда?»; он закричал: «Спасите! Помогите!» — и я его выпустил. И вот, когда настало время, когда я понял, что для претворения в жизнь моего замысла прежде всего и главным образом потребуются деньги, и притом в значительном количестве и в самом ближайшем будущем, я вспомнил то, о чем он нам читал, и отправился в Вест-Индию».