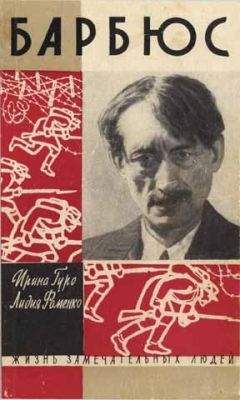Анри Барбюс - Огонь
- Не стоит вертеться вокруг да около, - с горькой усмешкой говорит один из них. - На этот раз я пропал. Дело ясное: у меня пробиты кишки. Будь я в лазарете, в городе, мне бы сделали операцию вовремя, и, может быть, дело бы пошло на лад. А здесь!.. Я был ранен вчера. Мы в двух-трех часах от Бетюнской дороги, правда? А от этой дороги сколько часов до лазарета, где можно сделать операцию? Да и когда еще нас подберут!.. В этом, конечно, никто не виноват, но не надо себя обманывать. Конечно, сегодня я еще не помру. Но долго мне не протянуть: ведь у меня все кишки в дырах. Тебе-то лапу вылечат или приделают другую. А я подохну.
- А-а! - говорит другой, убежденный логикой собеседника.
Первый продолжает:
- Послушай, Доминик, ты вел скверную жизнь. Ты здорово пил и с пьяных глаз натворил делов. У тебя большущий список судимостей.
- Не могу сказать, что это неправда, раз это правда, - отвечает другой. - Но тебе-то что?
- После войны, само собой, ты опять примешься за старое, и у тебя пойдут неприятности по делу с бочаром.
Другой вдруг свирепеет:
- Заткнись! А тебе какое дело?
- У меня не больше родных, чем у тебя. Никого, кроме Луизы, да и она не в счет: ведь мы не регистрировались. За мной не числится никаких дел, кроме кой-каких мелочей по службе. У меня имя чистое.
- Ну так что? Плевать мне на это!
- Вот что я тебе скажу: возьми мое имя. Возьми, я тебе его даю: ведь ни у тебя, ни у меня родных нет.
- Твое имя?
- Тебя будут звать: Леонар Карлотти. Вот и все. Подумаешь, важное дело! Не все ли тебе равно? Тебе не придется отбывать наказание. Тебя не будут преследовать, и ты сможешь зажить счастливо, как жил бы я, если б эта пуля не пробила мне брюхо.
- А-а! Тьфу ты, черт! Ты это сделаешь? Ну, брат, прямо не верится.
- Возьми мое имя. Солдатская книжка у меня в шинели. Так вот, бери мою книжку, а мне дай свою: я унесу все это с собой. Ты сможешь жить, где угодно, кроме тех мест, где меня немного знают: в Лонгвилле, в Тунисе. Запомни это! Ну, да в книжке все записано. Прочти ее хорошенько! Я никому не скажу: чтобы такая штука удалась, надо держать язык за зубами!
Он умолкает и вдруг с дрожью в голосе говорит:
- Все-таки я, может быть, расскажу Луизе: пусть она знает, как я хорошо поступил, и не поминает меня лихом, когда получит от меня прощальное письмо.
Но тут же он спохватывается и с величественным усилием качает головой.
- Нет, не расскажу. Хоть это и она. Женщины болтливы.
Доминик смотрит на него и все повторяет:
- А-а! Тьфу ты, черт!
Не замеченный ими, я ухожу от этой драмы, разыгрывающейся в жалком углу, среди толчеи и шума.
Я стараюсь протиснуться к выходу. Вдруг раздается глухой стук и целый хор восклицаний.
Это упал старший санитар. В брешь, которую он очищал от рыхлых кровавых останков, влетела пуля и пробила ему горло. Он растянулся на земле. Он вращает круглыми, ошеломленными глазами и брызжет пеной.
Скоро его рот и подбородок покрываются розовыми пузырьками. Под голову ему кладут мешок с перевязочными материалами. Мешок пропитывается кровью. Какой-то санитар кричит, чтобы не портили бинты: они нужны. Начинают искать, что подложить под голову; рана безостановочно выделяет красноватую пену. Находят только круглый хлеб и подсовывают его под затылок, на котором слиплись волосы.
Раненого берут за руку, задают ему вопросы, но он только пускает все новые и новые пузырьки; их все больше; широкое лицо и черную бороду видно только сквозь это розовое облако. Он кажется фыркающим морским чудовищем; прозрачная розовая пена скопляется и заливает даже круглые, помутневшие глаза, с которых свалились очки.
Он тихонько хрипит. Как ребенок. Он умирает, поворачивая голову вправо и влево, как будто пытаясь сказать: "Нет".
Я смотрю на эту неподвижную тушу и вспоминаю, что это был добрый человек, простодушный, отзывчивый. И как я раскаиваюсь, что иногда бранил его за ограниченность мыслей и за поповскую неделикатность! И теперь, среди всех этих бед, я счастлив, да, счастлив: ведь как-то раз, когда он украдкой читал мое письмо, пока я писал, - я удержался и не наговорил ему слов, которые могли его незаслуженно оскорбить. Я вспоминаю еще, как он меня возмутил своими объяснениями относительно пресвятой девы и Франции. Тогда я не допускал, что он говорит искренне. А почему он не мог сказать это искренне? Ведь сегодня он взаправду убит!
...Вдруг удар грома. Почва и стены сотрясаются, и нас швыряет друг на друга. Нависшая над нами земля как будто падает на нас. Часть деревянных креплений рушится, и брешь расширяется. Еще удар, - и еще часть балок с грохотом превращается в прах. Труп старшего санитара откатывается, как ствол дерева, к стене. Все подпорки и стропила, все эти черные, плотные кости подземелья трещат так, что у нас чуть не лопаются барабанные перепонки, и у всех узников этого застенка вырывается крик ужаса.
Новые взрывы грохочут один за другим и разбрасывают нас во все стороны. Бомбардировка рассекает и пожирает, пронзает и укорачивает это убежище. Свистящий град снарядов колотит и разбивает земляную стену перевязочного пункта; в проломы врывается дневной свет. Сверхъестественно выступают воспаленные или смертельно-бледные лица; глаза потухают в агонии или лихорадочно блестят; тела закутаны в белое, залатаны чудовищными повязками. Все, чего не было видно, теперь выступило наружу. Перед этим прибоем картечи и угля, сопровождаемым ураганом света, обезумевшие люди, мигая, скрючившись, встают, разбегаются, стараются спастись. В ужасе, целыми пачками, они катятся по низкой галерее, как в зыбком трюме погибающего корабля.
Летчик старается выпрямиться во весь рост, упирается затылком в свод, размахивает руками, призывает бога и спрашивает, как его зовут, каково его настоящее имя. Вихрь сбивает с ног и бросает на других раненых солдата, у которого из-под куртки, разверстой, как широкая рана, было видно, как билось сердце. Шинель человека, который однообразно повторял: "Ничего, потерпи!" - вдруг оказалась совсем зеленой, ярко-зеленой, наверно, от пикриновой кислоты, выделенной взрывом, потрясшим его мозг. Остальные, бессильные, искалеченные, шевелятся, тащатся, ползут, залезают в углы, как слепые кроты, как бедные раненые звери, преследуемые грозной сворой снарядов.
Бомбардировка ослабевает, затихает в туче дыма, который еще грохочет среди волн едкого газа. Я вылезаю через брешь и все еще среди отчаянного гула выбираюсь под открытое небо, проваливаюсь в рыхлую землю, спотыкаюсь о балки, утонувшие в ней, цепляюсь за обломки. Вот насыпь! Я ныряю в проходы, издали вижу: они так же мрачны и так же кишат толпами, которые со всех сторон вылезают из окопов и без конца стекаются к перевязочным пунктам.
По целым дням, по целым ночам здесь будут катиться и сливаться длинные потоки людей, исторгнутых полем битвы, этой равниной; у нее есть внутренности, она истекает кровью и гниет там, в необозримом пространстве.
XXII
ПРОГУЛКА
Цройдя по бульвару Республики, потом по авеню Гамбетты, мы выходим на площадь Торговли. Наши начищенные башмаки, подбитые гвоздями, звенят по городским тротуарам. Погода отличная. Яркое солнце сверкает, будто сквозь стекла теплицы; витрины магазинов блестят. Полы наших старательно вычищенных шинелей опущены, и, так как обычно они бывают подвернуты, на них обозначаются два синих квадрата.
Наша компания останавливается в нерешительности перед "Кафе префектуры", которое также называется "Большое кафе".
- Мы имеем право войти! - говорит Вольпат.
- Там очень много офицеров, - возражает Блер, дерзнув заглянуть поверх кружевной занавески в оконное стекло, между золотых букв.
- Да мы еще не все осмотрели в городе, - говорит Паради.
Мы идем дальше и, какие мы ни есть простые солдаты, производим смотр шикарным лавкам на площади: здесь модные, писчебумажные, аптекарские магазины; витрины ювелиров сверкают, как генеральские мундиры. Наши лица расплываются в улыбку. Мы свободны от всякой работы до вечера, мы хозяева своего времени. Мы ступаем неторопливо, спокойно; руки свободны, болтаются взад и вперед.
- Что и говорить, мы неплохо пользуемся отдыхом! - замечает Паради.
Перед нами открывается город, производящий внушительное впечатление. Мы соприкасаемся с жизнью, с жизнью населения, с жизнью тыла, с обычной, нормальной жизнью. А в окопах мы так часто думали, что никогда не доберемся сюда!
Мы видим мужчин, дам, парочки, окруженные детьми, английских офицеров, летчиков, которых уже издали узнаешь по их стройности, изяществу и орденам, и солдат, которые могут выставить напоказ только выскобленную кожу, поношенную одежду и единственное украшение: номерную бляху, сверкающую на шинели; они осторожно вступают в этот прекрасный мир, избавленный от всяких кошмаров.
Мы ахаем, удивляемся, как путешественники, приехавшие издалека.
- Сколько народу! - восклицает Тирет.