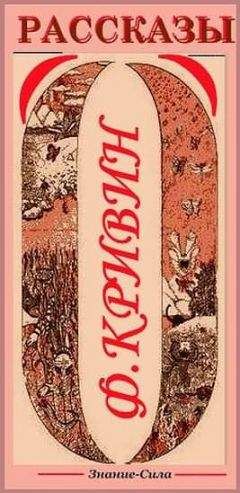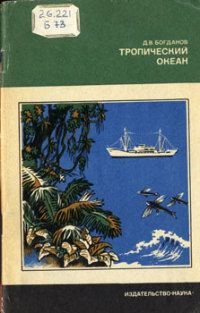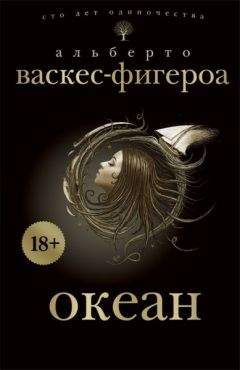Мария Романушко - В свете старого софита
Когда мы проходили однажды по Художественному проезду, мимо МХАТа, Марьяна сказала своим колокольчиковым голосом: «Между прочим, мой прадед строил. По папиной линии. Архитектор Шехтель. Папин родной дедушка». Я была потрясена. Связь времён, оказывается, не прерывается, она – ЕСТЬ, она – ЖИВЁТ, пульсирует, и вот, идёт рядом со мной девчонка, и так запросто, махнув ручкой в сторону главного театра страны, говорит небрежно: «Между прочим, мой прадед строил». Потрясающе!
Таня – полная противоположность Марьяне. Резкая, угловатая, с громким голосом. Какая-то бесшабашная. Густые русые волосы всегда взъерошены. Очки в тёмной, тяжёлой оправе, за очками – настороженный, колючий взгляд. Много курит. Пишет хорошие, но очень мрачные стихи. На почве поэзии мы и сдружились.
Когда первый раз пришла к ней в гости и засиделась допоздна, я спросила: «А когда твои родители с работы приходят?» И она ответила, спокойно так, совершенно будничным голосом, что родители её с работы уже давно не приходят. Потому что умерли. Когда она училась в десятом классе.
– Как? Одновременно?…
– Сначала мама. А через девять дней – папа. От сердечного приступа. Не смог пережить маму, очень её любил.
– И ты… одна с тех пор?
– Вообще-то, у меня есть старший брат. Но он на Курилах живёт. Военный лётчик. Помогает мне деньгами.
– А дедушки и бабушки у тебя есть?
– Есть одна бабушка. По маме. На Украине. И дедушка тоже был. Но его убили.
– На войне?
– Какой на войне! Браконьеры. Он был лесник. Летом, когда я одна осталась, поехала к ним. Мы с дедом на лошадях объезжали лес. Встретили браконьеров. Они начали стрелять. Меня ранили, – Таня спустила белый гольфик на загорелой ноге, и я увидела жутковатый шрам, идущий по икре от щиколотки почти до колена. – Ну, вот. А деда убили. У меня на глазах.
Никого в жизни мне не было так жаль, как Танюшку Неструеву. И я горячо полюбила эту одинокую, колючую девчонку, полюбила, как родную сестру. За что жизнь взвалила на её худющие, ещё детские плечи такой крест – столько утрат разом? И как она это всё пережила? Как вообще такое можно пережить?…
Она сказала:
– Мечтаю, что когда-нибудь у меня будут дети. Мальчик и девочка. Мальчика назову в честь отца – Дмитрием, а девочку в честь мамы – Марией.
Танюшка верила в Бога. Она ходила в церковь. Но не в Москве, а в маленьком городке на Украине, куда ездила навещать бабушку и маминых сестёр. Наверное, вера в Бога и помогала ей выжить.
Были и ещё два допинга: сигареты и вино. Вообще, винопитием занимались в нашем отделе все. Это было обычное дело: в конце рабочего дня кто-нибудь из девчонок вызывался «сбегать напротив» – в магазин, за бутылкой вина. Все, кроме нас с Марьяной, относились с большим энтузиазмом к этому способу расслабиться. Даже считалось: а как же без этого? Также и курение. Кроме нас с Марьяной, курили все. А Танюшка дымила, как паровоз. Ночью, если ей хотелось покурить, а в доме не было ни одной сигареты, Танюшка выбегала на улицу и «стреляла» сигареты у таксистов. На мои слова о том, что это вредно – так много курить, она ничего не говорила, а только закуривала очередную сигарету… Помню её бледно-желтое лицо, напряжённый взгляд, удушающий дым от сигареты и хрипловатый голос, когда она читает своё самое грустное стихотворение – про человека, который «несчастья возит» – про водителя катафалка… Из всех своих стихов, именно эти она любила больше всего. И если её просили почитать стихи, то прежде всего читала именно эти…
Несколько лет мы с Танюшкой Неструевой будем очень дружны. И её дом будет всегда открыт для меня, я буду подолгу жить у неё, когда отношения с Фёдором накалятся до предела. Так же, как когда-то к Лянь-Кунь в Марьину Рощу, так теперь к Танюшке я могла приехать в любое время дня и ночи, даже без звонка.
А через много лет Танюшка станет специалистом в очень неожиданной области – Бородинская битва! Она будет знать об этом историческом событии абсолютно всё. И когда будут снимать о Бородинской битве какой-нибудь фильм, или передачу, будут приглашать Неструеву, как консультанта.
Но ни дочки Марии, ни сына Дмитрия, о которых она мечтала, судьба ей так и не подарила…
* * *
Вскоре, как я пришла в Москонцерт, произошло страшное событие. Лев Лещенко со своим ансамблем должен был лететь на гастроли в Харьков. Лещенко опоздал на самолёт. Ансамбль улетел без него. Самолёт разбился. Все погибли. Молодые, красивые, талантливые ребята… Лёва чуть не сошёл с ума от горя и чувства вины. Хотя в чём он был виноват?…
Москонцерт закрыли на весь день, все уехали на похороны. Помню огромные портреты на гробах, в которых, как шептались вокруг, была просто обожжённая земля с того места, куда упал самолёт…
В нашей комнате все плакали, не просыхая, неделю… Из отдела в отдел передавали горькие Лёвины слова: «Я не знаю, как мне теперь жить. Лучше бы я улетел вместе с ними…» И когда его пытались утешить: «Лёва, радуйся, тебя Бог спас», он спрашивал: «А почему Он их не спас?» На это никто не мог дать ответа.
И потом долго висела в коридорах Москонцерта густая печаль и грустный шёпот всё о том же: «Судьба… им – улететь, а ему – опоздать… вот что это, если не судьба?…»
* * *
Телефонный звонок:
– С вами говорит Валентина Демченко. Знакомая Ефима Черныха. Вы оставили у него свои стихи…
– Да. Год назад…
– Ефим дал мне их прочесть, и я хочу вам сказать «спасибо». Я давно ничего подобного не читала… Я отнесла ваши стихи в литературную консультацию при Союзе писателей, там есть такой замечательный редактор – Борис Глебович Штейн, он тоже их прочёл и хотел бы с вами пообщаться. Запишите его телефон.
Недоумевая, записываю телефон…
…Он смотрел на меня из-за толстых стёкол очков добрыми голубыми глазами. Он говорил мне замечательные слова о моих стихах. Добрый Борис Глебович Штейн, с которым отныне у нас – дружба: на много-много лет… У него – дочка моя ровесница, и только что родилась внучка, как раз в тот день, когда я первый раз пришла к нему на консультацию, и ему позвонили, и он так разволновался, и был так счастлив…
Наверное, у моего отца такие же внимательные добрые глаза. Хотела бы я, чтобы мой отец так же волновался за меня и радовался… Как же мне этого не хватает в жизни! Милый мой папочка, где ты? Мне уже двадцать два года будет этим летом, а я всё никак не привыкну к твоему отсутствию в моей жизни… Почему столько лет не пишешь мне? Я этой зимой писала тебе, но письмо вернулось. С припиской, что «адресат выбыл». Я сделала запрос в одесское адресное бюро, и мне прислали твой старый адрес. Я подумала, что возврат письма был ошибкой. И вновь написала тебе по-прежнему адресу. Но результат был тот же – «Адресат выбыл».
Значит, всё таки выбыл? Но – куда?… Почему ты не прислал мне свой новый адрес? Где мне теперь искать тебя? Почему мы опять потеряли друг друга? Как такое могло случиться?! Впрочем… может, ты мне и писал, а мама и Фёдор не отдали мне твоего письма? Конечно, они бы не отдали. Ни за что бы не отдали! И не сказали бы про письмо, это уж точно! А может, ты мне писал на главпочтамт до востребования? А я давно уже не хожу туда… Может, твоё письмо лежало месяц, дожидаясь меня, а я так и не пришла за ним, и оно отправилось обратно… Вот, я сама во всём и виновата! Прости меня, папочка. Прости свою непутёвую дочь. Я опять потеряла тебя. На этот раз – по своей вине. И теперь уже, видимо, навсегда… Мысль об этом сидит колючей занозой в моём сердце. Есть в сердце место, где живёт твой образ, твои чудесные голубые глаза, твоя фигура в чёрном пальто на белом снегу, твой прощальный взмах руки – и прикасаться к этому месту нестерпимо больно… Но когда мне плохо, когда мне очень плохо, я возвращаюсь вновь и вновь на эту снежную тропинку, вновь ощущаю на себе твой взгляд – и думаю: «Мой отец любит меня». Снежная, солнечная тропинка в городе Оренбурге пятьдесят восьмого года, где мы прощались с тобой перед разлукой на тысячу лет, – это место моих свиданий с тобой. Всегда, когда я чувствую необходимость увидеться с тобой и поговорить, я вновь вижу себя, семилетнюю, на этой тропе и – тебя, мой прекрасный, недосягаемый отец…
* * *
Очень, очень давно не видела Моего Клоуна… Почти год!
Скоро – лето…
Летом он всегда приезжает в Москву…
ЛЕТО 1972 ГОДА
Глава шестая
И настало лето семьдесят второго года. Лето, в которое всё скрестилось, сошлось.
Оно началось жарой, всё буйно цвело, особенно сирень… Особенно на Цветном бульваре. Снежно-белая, нежно-сиреневая, фиалково-лиловая… Ах, сколько было сирени на Цветном бульваре в начале того лета!…