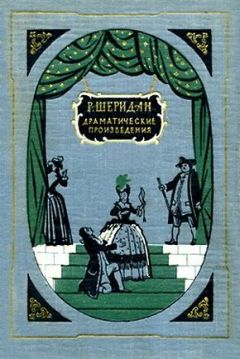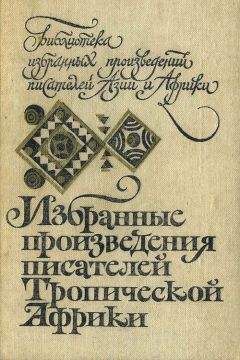Эрни Крустен - Эстонские повести
Я доедаю кусок хлеба. Хорошо, что Эллы здесь нет… А все-таки было бы куда лучше, если бы она была здесь… Я ставлю будильник на семь часов. К чему мне утруждать коридорных, если у меня с собой мой старый будильник. Я чищу зубы над мраморным умывальником, принимаю таблетку опиума, выписанную Кареллом. Когда у царя бессонница, он тоже принимает эти таблетки. И ложусь в постель.
Я кладу на голову вторую подушку, чтобы не слышать уличного и привокзального шума. Но, конечно, сон сразу не приходит. Сначала я опять вижу тех самых жандармов[68], которые ворвались ко мне ночью в шестьдесят шестом году. Только в полусне обыск не проходит так безрезультатно, как он прошел на самом деле. Тогда они ничего не нашли. Но теперь, в кошмаре, они отыскивают в моей квартире самые страшные вещи… Я уже много раз переживал это, находясь на грани бодрствования… Они открывают ночной столик. В нем мазь от ревматизма, сердечные капли и эти самые снотворные таблетки. Но они вынимают оттуда с усмешкой хорошо осведомленных людей большую коробку, сплошь покрытую штемпелями, — ей-богу, никогда раньше и этой коробки не видел, но я сразу же знаю, что в ней, так как это тот самый пакет с патентованным французским лекарством от печени, присланный царю из Брюсселя и взорвавшийся в ту минуту, когда Боткин, второй лейб-медик, начал его вскрывать. Так что Боткин только чудом уцелел. Я заверяю их: Боже мой, господа, я ничего про все это не знаю, ровно ничего, поверьте мне… А они поворачивают к стене стоящие на мольбертах портреты царя и наследника престола, и высокопоставленных дам… — и по углам в комнате у меня лежит стопками сложенный «Колокол», а на оборотной стороне холстов повсюду портреты Гарибальди[69]… Потом, несмотря на все это, я стою в кабинете генерала Трепова и в руке у меня жалоба — все в точности так, как было на самом деле — жалоба по поводу противозаконного наглого вторжения и обыскивания… И господин обер-полицмейстер встает и любезно идет мне навстречу — совсем не так, как было на самом деле, деревянно и почти с криком, — он любезно идет мне навстречу, мундир у него расстегнут, правое плечо и шея забинтованы белым бинтом, из-под которого виднеется вата, и я говорю: «Господин генерал, ведь Вера Засулич будет стрелять в вас еще только через тринадцать лет, почему же вы уже сейчас…» Но обер-полицмейстер ие дает мне досказать (он и тогда почти что не дал мне слова вымолвить), он берет меня под руку и говорит: «Дорогой господин Каракозов, оставим этот разговор, газеты, конечно, пишут, что я уже совершенно здоров, но ни вас, ни меня они не введут в заблуждение. Ха-ха-ха-хаа…» Я пытаюсь вырваться, но не смею сделать это достаточно решительно. Я говорю: «Боже мой, ваше высокопревосходительство, вы ошибаетесь! Я вовсе не Каракозов. Никогда в жизни я не посягал… на его императорское величество». «Я знаю, я знаю, господин Каракозов», — говорит генерал, и мы с ним летим (из его белой повязки на правом плече мундира у него выросло белое ватное крылышко, на левом вместо крыла он размахивает эполетом с бахромой), и мы летим вдвоем по воздуху, влетаем в слуховое окно в задней стене церкви Каарли… Я начинаю подниматься по приставной деревянной лестнице к абсиде, генерал следует за мной. И когда я останавливаюсь лицом к стене, на другой стороне которой изображен мой Христос (так ли ставят тюремных узников, чтобы они не видели, кого проводят за их спиной, следовало бы спросить генерала Трепова), он кладет обе руки мне на лопатки и начинает прижимать меня к стене. Он как-то удивительно ловко вдавливает меня в сооружение из камней и сосновых досок, которое я велел построить в нише абсиды, и в четыре тысячи железных гвоздей, которые я велел сюда вбить, и я думаю: у таких вельмож, даже когда они ранены, чудовищная сила… И вот я уже протиснут сквозь семь слоев штукатурки и слился с красками. Я смотрю вниз на приход. Теми самыми, мною написанными глазами, о которых говорят, что они смотрят прямо в глаза каждому находящемуся внизу, где бы он ни стоял… И семьдесят мужиков из самого сердца Эстонии… Нет-нет, три тысячи человек смотрят снизу мне прямо в глаза, взгляд которых неотвратим… Я хочу крикнуть: люди, не смотрите же так на меня! А приход встает и начинает аплодировать, и их аплодисменты обволакивают меня, как плотная серая вата, и душат… душат…
Мы входим в церковь через боковую дверь со стороны канцелярии: я иду впереди, за мной следуют старосты прихода. Между лиловатыми грозовыми тучами проглядывает солнце, церковные стены светлеют, и вспыхивают блики на медных паникадилах. Мгновение я стою вместе с ктиторами перед тремя тысячами пар глаз. Я спокоен и холоден. И это мне удается, это мне удается. На мне черный сюртук, в прошлом году перед поездкой в Париж заказанный вместе с фраком у Фишера на Гороховой. В серый галстук я воткнул жемчужину. Я смотрю на сидящих на скамьях и стоящих в проходах. Потом начинаю проталкиваться сквозь толпу. И хотя все передо мной почтительно расступаются насколько это возможно, я едва продвигаюсь.
— «Простите», «Будьте так любезны», «Будьте так любезны», «Простите, что мы…» «Пожалуйста, господин профессор…», «Разрешите вас приветствовать, господин профессор…», «Радуюсь чести видеть вас…», «Пройдите с этой стороны, отсюда, отсюда, пожалуйста», «Вечная вам благодарность за лик нашего Спасителя…»
Я иду сквозь тихую волну их почтительности, касаясь их плеч и одежды, сквозь шорох их движений, сквозь их дыхание и запахи… Я спокоен и холоден. Я должен с собой справиться… (Стиральное мыло, банный веник, пот, дешевые духи «Vergißmeinnicht»[70], трубочный нагар, конюшни… сосновые стружки, железные опилки…) Сквозь их дыхание… Я должен с собой справиться… Я отвожу взгляд от их глаз… Первый ряд справа от кафедры оставлен свободным. Мы проходим к нему. Прежде чем повернуться спиной к приходу и сесть, я смотрю на толпу и вижу: с краю в третьем ряду, у самой кафедры, длинное лицо и бакенбарды господина Гернета. Я ведь знал, что он где-то здесь. Я почти рассмеялся. Я делаю легкое движение правой рукой в знак того, что узнал его. Еще левее — мой брат Карл с семьей, и брат Тынис, приехавший из Петербурга, и Георг здесь, и Ханс со своей толстой Лизо, и разные лубьяссааресские Кёлеры, которые из почтения не решились ко мне подойти и которых таллинские Кёлеры (таково у нас все же, слава богу, чувство солидарности) сегодня насильно усаживают в первых рядах… Теперь что-то заставляет меня посмотреть еще дальше налево: и у меня подпрыгивает сердце и по всему телу разливается тепло от испуга и радости: Элла! Она здесь! Я не понимаю, почему она так неожиданно приехала в Таллин… Но мне от этого невероятно радостно… Даже если ее приезд означает, что в Петербурге что-то случилось, что-то дурное — кто его знает, что могло случиться за три недели моего отсутствия… Во всяком случае, мне до боли радостно… Она сидит в тридцати шагах от меня, ее черные локоны под белой шляпой в стиле бидермейер, напоминающей корзинку для цветов, оживленно растрепались. Она ловит мой взгляд и ободряюще мне кивает. Я киваю ей в ответ: Элла…
Мы с ктиторами занимаем места. И я чувствую, что Элла там, за моей спиной, и никакой ветер из карелловской двери до меня не доходит. Вступает орган. Раздаются высокие торжественные звуки, и могучий гремящий водопад низвергается на нас. Я сижу… и мне это удается, мне это удается… Сижу выпрямившись, с холодным лицом. Как решил. Я поднимаю глаза, смотрю на моего Христа и быстро снова опускаю взгляд. Потому что много соображений чисто технических и таких и иных неиспользованных возможностей и сомнений мелькает у меня в голове. Я слушаю: этот бледный молодой человек по имени Мартин Липп где-то говорит, приход встает, опускается на колени и снова садится, орган гремит, могучий каскад льется через меня. А я, как улыбающийся пень среди потока…
Улыбающийся пень со своей тайной думой. Элла… я же не могу встать и повернуться спиной к алтарю, чтобы увидеть ее. Но я знаю: она здесь. Вопреки моему совету, но повинуясь желанию моего сердца, приехала из Петербурга. Я чувствую ее присутствие, думаю о ней каждой клеточкой тела. Как только умеет думать мужчина, встретивший любовь, когда на это уже не было никакой надежды… Я думаю: Элла… Это ослепительное тело, нежное и в то же время неожиданно сильное. Ее прекрасная душа, ее образованный ум… Ее умение так практически думать, что будь это не она, а кто-нибудь другой, могло бы стать страшно…
— А я, — думается мне, — здесь, как пень среди зыбящейся реки, точимый червем знания и сомнения… Ибо — боже мой — в конце концов, сострадания заслуживают все… все… (и как только эта мысль приходит мне в голову, я уже заранее знаю, к чему она приведет, к чему она всегда приводила…). Все… В конечном счете, любой человек являет собою жертву… Гернет с его потугами снять вину со своего сословия. Карелл с его тихой, благоразумной терпимостью, которая, в сущности, не что иное, как трусость, с его раздражающей борьбой между добротой и нерешительностью, непрестанно происходящей в нем под всеми его регалиями… И я сам, со всеми моими идеалами искусства, красоты, и гармонии, над которыми нынешняя молодость глумится… с моим спокойствием, за которым, по мнению одних, предательски таится пылкость, а по мнению других — равнодушие, с моим Христом, оказавшимся разбойником! И Крейцвальд! И он тоже. С его проклятой беспощадной желчностью! И папа Шульц — теперь он уже в могиле — с его дурацким легкомысленным эпикурейством! С его болтовней. Которая любому давала основание для каких угодно разговоров… И Элла… Господи! Я ничего не могу с собой поделать, меня гнетет эта мысль, я могу только вслух повторять (все равно за громким пением прихожан никто этого не услышит), я могу только повторять: это ложь, ложь, ложь, все, что Крейцвальд некогда сказал про Эллу своим знакомым! Я всегда это помню, эта мысль неотступно со мной, как будто какое-то скользкое, мерзкое животное шевелится у меня в черепе… Будто бы доктор Шульц ценою своей плоти и крови стал цензором, он сделал карьеру на том, что согласился, чтобы Элла стала возлюбленной (о господи, мне кажется, что во рту у меня вкус трупа) старого Владимира Федоровича Адлерберга, министра двора его императорского величества, этого восьмидесятилетнего напудренного шимпанзе… И, по словам Крейцвальда, Элла выполнила волю отца… Значит, это могло быть в шестьдесят шестом… когда доктор стал секретарем министерства двора… нет, это ложь! В этом не может быть ни крупицы правды. Ибо даже если все остальное, что говорит против этого — самое существо Эллы — еще ничего не означало бы (ее склонность к религии, ее стремление к чистоте можно было бы объяснить формулой кающейся Магдалины, а ее привязанность ко мне, мое необъяснимое счастье, как я его называю, после ее падения было бы даже понятнее…), то одно обстоятельство все же не могло быть ни комедиантством, ни отчаянием: ее глубокое уважение к отцу. Которое мне известно и в подлинности которого я не ошибаюсь. Нет-нет-нет! Элла, прости, что я опять об этом думаю. И за то, что стал доказывать немыслимость этого, как будто еще нужны доказательства, я же знаю тебя… Прости меня, но ведь мы все жертвы… совсем не обязательные и все же неизбежные… Но чего? Чего именно?! Порой мне кажется, что я близок к пониманию… Кажется, что именно сейчас, в этот момент… если бы только так не гремел орган…