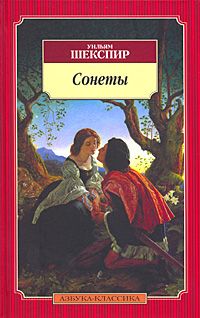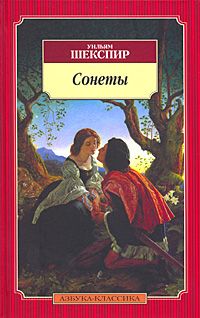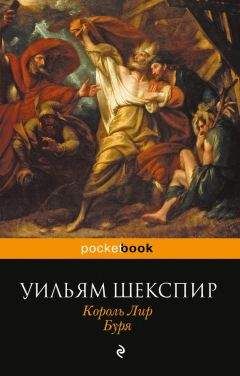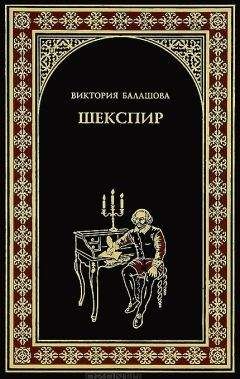Зигфрид Ленц - Живой пример
— Тогда поехали все вместе, и Тамару захватим, — решает Майк, — если только влезем в машину.
Не совсем вперемешку, но впритирку друг к другу, в самых неудобных позах — у одного до боли зажата нога, другой неестественно вытянул руку, — набились они в маленькую машину с жесткими сиденьями, и Хеллер, не с целью посетовать на неудобство, а пытаясь выяснить, умеет ли Тамара, холодная, длинноногая, без запаха, говорить по-людски, рассуждает вслух о недостатках в строении человеческого тела и спрашивает, не приходилось ли ей при случае задумываться над проектами его улучшения?
Тамара не понимает вопроса и шепчет:
— Не понимаю, о чем вы?
Умеет, думает Хеллер, говорить она умеет, и он предлагает всем подумать, до чего же было бы удобно, если бы при необходимости можно было отвинтить, отцепить, отделить ту или иную часть тела, вот, скажем сейчас, в машине.
— Или в постели, — замечает Майк. — А еще во время футбольного матча на стадионе у Миллернтор.
Тамара открывает свой ротик сердечком, всегда слегка приоткрытый, и чуть слышно заявляет, что ей совершенно непонятно о чем речь: «Ведь все части нашего тела — единое целое!» — Майк не только поддерживает ее, но и одобряет за то, что она всегда ищет логику в фактах, «составляющих единое целое». Хеллер во власти раздражения уже готов подхватить и развить эту тему, но, глянув на профиль Тамары, на это непроницаемое лицо, начинает опасаться, что коль скоро она не понимала его до сих пор, то теперь уж наверняка не поймет, однако ему непременно надо что-то сделать, от чего-то освободиться.
— Значит, это будет сеанс подписания автографов, — спрашивает он, и Майк отвечает, перегоняя трамвай:
— Универмаги устраивают теперь такие мероприятия и тем сразу убивают двух зайцев.
— И что же они потом делают с твоими автографами? — спрашивает Хеллер. — Носят их все время с собой, кладут дома под стекло, используют как закладки для книг или едят с сахаром и корицей, как облатку — частицу тела своего бога?
— Они меняются, между прочим, — растерянно говорит Майк, — да, меняются автографами и продают их.
— Значит, используют для наживы, — заключает Хеллер. — Даже добытые с бою реликвии служат целям наживы. Вот видишь, какой нездоровый дух царит в твоей общине: предметы культа не исключены из меновой торговли, и ты еще эту торговлю поощряешь, заботясь об инфляционном затоплении рынка своими автографами.
— В нашей бывшей школе за мой автограф дают три плитки шоколада, — сообщает Майк.
— И такая курсовая цена даже не наводит тебя на размышления? — спрашивает Хеллер. — Тебя меняют на какао, молоко и сахар, может, в придачу дадут еще толченые орехи. Вот твой вклад в дело просвещения общества, заострения его критического сознания.
Говоря все это, Янпетер Хеллер испытывает облегчение, некое злобное торжество; в нем нарастает чувство мстительной радости, ибо теперь он берет реванш, — только вот за что? Этого он и сам толком не знает, может быть, за надувательство с обедом, за то, что его так стиснули чужие тела или за взгляды своего бывшего ученика, которые раздражают его тем сильнее, с чем большей самоуверенностью они преподносятся.
— Ты говоришь, Найдхард, что они одни и потому ты им нужен. В качестве кого? Уж не собираешься ли ты перевести их через Чермное море?[8] Или вывести из Хамельна к водам Везера, готовым их поглотить?[9] Кого они видят в тебе? Кем хотят избрать посредством свободного и тайного голосования? Допустим, своим кумиром. Они хотели бы походить на тебя, подражать тебе, быть такими, как ты. Но разве они знают, какой ты на самом деле? Много ли они успели узнать о тебе? Ты ведь учился задавать вопросы, так неужели ты никогда не спрашиваешь себя, на чем основан этот мнимый союз? Они-то ведь хотят только одного: отсидеться в сторонке, спрятаться, сдать ответственность в гардероб. Им нужен огонь, чтобы оживить омертвевшую от холода мечту, мечту о бегстве и освобождении и о воссоединении на некой таинственной земле. И ты раздуваешь этот огонь, ты распахиваешь перед ними ворота, за которыми они найдут то, чего никоим образом не заслужили — забвение. Священнослужитель при гитаре, ратующий за дешевую религию забвения. Неужели такая роль тебя устраивает? А знаешь ли ты, чему ты этим препятствуешь? Уводя их в поля блаженных, ты скрываешь от их взгляда то, что надо изменить здесь. — Хеллер замолчал. Он обдумывает сказанное. Не слишком ли жесткая логика получилась?
Тамара пытается от него отстраниться, не допустить больше соприкосновения между ними, она поминутно натягивает на бедра полы своего белого лакированного пальто, неподвижно уставясь в грязную шею Майка; пусть Хеллер чувствует, как сильно задета его словами и она тоже. А Майк? Майк добродушно фыркает — это предупреждение, просьба о внимании — и говорит:
— Да, я понимаю, господин учитель: что бы ты ни делал, этого мало, пока у тебя нет соответствующего мировоззрения. Верно? Но что касается меня — я, собственно, хочу заниматься только музыкой, не знаю, понятно ли вам, о чем речь. Если же вы тем не менее требуете, чтобы я завел себе определенное мировоззрение, может, вы мне какое-нибудь порекомендуете? Но, боюсь вас разочаровать, мой любимый цвет — желтый.
Вот так они разговаривают, так разоблачают друг друга. Так они, бывало, сшибались и в классе, не впрямую, а по поводу какого-нибудь малозначительного эпизода истории, ухватившись за упомянутое кем-то имя, понятие или деяние; Хеллер всегда заботился о том, чтобы мнения разделились, чтобы через класс пролег ров, и ему самому словно бы приносило удовлетворение, если признанно сильные характеры начинали колебаться, если мнения под нажимом менялись и в конце концов торжествовала неясность. Оба они, Хеллер и его бывший ученик, теперь, по-видимому, вспоминают все это и смеются.
Вот и универмаг «Хильмайер и Кнокке», мрачный храм потребления; сесть в машину или выйти из нее здесь разрешается, но есть ли стоянка? Тамара предлагает свои услуги: она отведет машину в гараж высотного дома и присоединится к ним позже. Вылезайте, вылезайте, все сразу. Они входят внутрь сквозь вихри горячего воздуха и, втиснувшись в поток мокрых плащей, толкаются, ждут, обдаваемые волнами музыки, оглядываются, обороняясь от зонтиков и с трудом переставляя ноги среди хозяйственных сумок; в универмаг они входят неузнанными — никто им не кланяется, не машет, подзывая к себе; с Майком такое случается нечасто. Они не могут выбиться из потока, он несет их дальше, до отдела «Пояса, пуговицы, молнии»; здесь толпа рассыпается, можно от нее отделиться и заявить о себе хотя бы этой высокомерной, невероятно скучающей продавщице. Мы пришли, говорит Майк, ожидая обычной реакции — изумления и восторга. Но продавщица строго смотрит на него; ну, и что дальше? Этого Майк не ожидал, и потому он не протестует, когда за него отвечает Юрген Клепач:
— Что дальше? Директора, девочка, давай сюда директора. Шевелись, шевелись, девочка. Передай ему: в магазин только что вступил Майк Митчнер.
Продавщица, которая, судя по ее внешности, привыкла только к льстивым речам, не может скрыть своего возмущения подобной манерой обращения; она медлит, но потом все же подходит к товарке — важной, степенной поступью — и что-то шепчет ей, указывая глазами на всю эту группу — вон они стоят! И теперь происходит то, к чему так привык Майк: вторая продавщица смущенно улыбается и робко, даже как-то скособочившись, приближается к ним.
— Здравствуйте, господин Митчнер, вас ждут уже… Позвольте я вас провожу, мы поднимемся вот на этом служебном лифте. Пожалуйста, господа, нам на шестой этаж, в мебельный отдел.
— Вы находитесь в мебельном отделе, он переоборудован заново специально для вас!
Человек, знакомый многим по телепередачам, расхаживает перед низко натянутой веревкой и, подняв лицо к микрофону, наклонив его надо ртом так, словно собирается из него пить, задает самые неожиданные вопросы публике, которая сгрудилась плотной массой, распространяя испарения потных тел и влажной одежды. Как вы относитесь к вашей мебели? У одного он спрашивает, какой у него диван, старый или новый? У другого — может ли он удобно устроиться в своем любимом кресле?
— Он им внушает сознательное отношение к мебели, — шепчет Майк Митчнер своему бывшему учителю, протискиваясь к заградительной веревке.
То, что лежит здесь, на огороженном веревкой паркете, можно принять за препарированные и затем покрашенные внутренние органы крупных зверей, по меньшей мере за высушенную оболочку этих органов — коричневые почки, желтые сердечные сумки, кожаные мешки в форме селезенки, печени, толстых кишок, слепой кишки, вялые, ржаво-красные стенки желудка — все тускло поблескивает, все аккуратно разложено, как будто здесь потрошили зверей после удачной охоты.