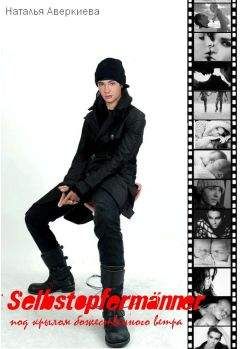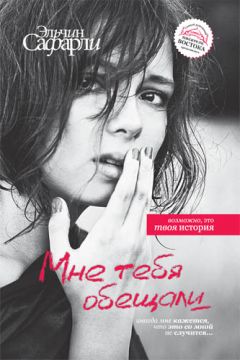Оскар Уайлд - Тюремная исповедь
Но, кажется, я говорил о том, как ты вел себя по отношению ко мне в те три дня, три года тому назад? Тогда, в Уэртинге, в одиночестве, я пытался окончить пьесу. Два раза ты ко мне приезжал - и наконец уехал. Вдруг ты явился в третий раз и привез с собой товарища, причем настаивал, чтобы он остановился у меня в доме. Я наотрез отказался и, ты должен признать, вполне обоснованно. Конечно, я вас принимал, - тут выхода не было, но не у себя, не в своем доме. На следующий день, в понедельник, твой товарищ вернулся к своим профессиональным обязанностям, а ты остался у меня. Но тебе надоел Уэртинг и еще больше надоели, я уверен, мои бесплодные попытки сосредоточить все мое внимание на пьесе - единственном, что меня тогда интересовало, - и ты настаивал, чтобы я повез тебя в Брайтон, в "Гранд-отель". Вечером, как только мы приехали, ты заболел той ужасной ползучей лихорадкой, которую глупо называют инфлуэнцей, - у тебя это был не то второй, не то третий приступ. Не буду тебе напоминать, как я за тобой ухаживал, как баловал тебя не только фруктами, цветами, подарками, книгами, - словом, всем, что можно купить за деньги, но и окружал заботой, нежностью, любовью - тем, что ни за какие деньги не купишь, хотя ты, быть может, думаешь иначе. Кроме часовой прогулки утром и выезда на час после обеда, я не выходил из отеля. Я специально выписал для тебя из Лондона виноград, потому что тебе не нравился тот, что подавали в отеле, выдумывал для тебя удовольствия, сидел у твоей постели или в соседней комнате, проводил с тобой все вечера, успокаивая и развлекая тебя. Через четыре-пять дней ты выздоровел, и я снял квартиру, чтобы попытаться кончить пьесу. Разумеется, ты поселяешься со мной. Но не успели мы устроиться, как я почувствовал себя совсем скверно. Тебе надо ехать в Лондон по делу, но ты обещаешь к вечеру вернуться. В Лондоне ты встречаешь приятеля и возвращаешься в Брайтон только поздно вечером на следующий день, когда я лежу в жару, и доктор говорит, что я заразился инфлуэнцей от тебя. Ничего не могло быть хуже для больного человека, чем та моя квартира. Гостиная была внизу, на первом этаже, моя спальня - на третьем. Слуг в доме не было, некого было даже послать за лекарством, прописанным врачом. Но ты со мной. Я ни о чем не тревожусь. А ты два дня подряд даже не заходил ко мне, ты меня бросил одного, - без внимания, без помощи, без всего. Речь шла не о фруктах, не о цветах, не о прелестных подарках - но о самом необходимом. Я не мог получить даже молоко, которое доктор велел мне пить: про лимонад ты заявил, что его нигде нет, когда же я попросил тебя купить мне книжку, а если в лавке не окажется того, что я хотел, принести что-нибудь еще, ты даже не потрудился зайти в лавку. Когда я из-за этого на весь день остался без чтения, ты спокойно сказал, что книгу ты купил и что книготорговец обещал ее прислать: все, как я потом совершенно случайно узнал, оказалось ложью с первого до последнего слова. Все это время ты, конечно, жил на мой счет, разъезжая по городу, обедая в "Гранд-отеле", и заходил ко мне в комнату, собственно говоря, только за деньгами. В субботу вечером, когда ты оставил меня без помощи одного на целый день, я попросил тебя вернуться после обеда и немного посидеть со мной. Раздраженным тоном, очень нелюбезно, ты обещал вернуться. Я прождал до одиннадцати вечера, но ты не явился. Тогда я оставил записку у тебя в спальне, напоминая тебе о том, что ты обещал и как сдержал свое обещание. В три часа ночи, измученный бессонницей и жаждой, я спустился в полной темноте в холодную гостиную, надеясь найти там графин с водой - и застал там тебя. Ты накинулся на меня с отвратительной бранью, - только самый распущенный, самый невоспитанный человек мог так дать себе волю. Пустив в ход всю чудовищную алхимию себялюбия, ты превратил угрызения совести в бешеную злость. Ты обвинял меня в эгоизме за мою просьбу побыть со мной во время болезни, упрекал за то, что я мешаю твоим развлечениям, пытаюсь лишить тебя всех удовольствий. Ты заявил, - и я понял, насколько это верно, - что ты вернулся в полночь, только чтобы переодеться и пойти туда, где, как ты надеялся, тебя ждут новые удовольствия, но из-за моей записки, с упреками за то, что ты бросил меня на целый день и на весь вечер, у тебя пропала всякая охота веселиться, и что из-за меня ты лишился всякой способности вновь наслаждаться жизнью. С чувством отвращения я поднялся к себе и до рассвета не мог заснуть и еще дольше не мог утолить жажду, мучившую меня от лихорадки. В одиннадцать утра ты пришел ко мне в комнату. Во время недавней сцены я не мог не подумать, что своим письмом я, по крайней мере, удержал тебя от поступков, переходящих всякие границы и утром ты пришел в себя. Разумеется, я ждал, когда и как ты начнешь оправдываться и каким образом станешь просить прощения, уверенный в глубине души, что оно тебя ждет неизбежно, что бы ты ни натворил; эта твоя безоговорочная вера в то, что я тебя всегда прощу, была именно той чертой, которую я больше всего ценил, может быть, самой ценной твоей чертой вообще. Но ты и не подумал извиниться, наоборот, ты снова устроил мне еще более грубую сцену, в еще более резких выражениях. В конце концов я велел тебе уйти. Ты сделал вид, что уходишь, но, когда я поднял голову с подушки, куда я упал ничком, ты все еще стоял тут и вдруг, дико захохотав, в истерическом бешенстве бросился ко мне. Неизвестно почему, ужас охватил меня, я вскочил с постели и босиком, в чем был, бросился вниз по лестнице в гостиную и не выходил оттуда, пока хозяин дома, которого я вызвал звонком, не уверил меня, что ты ушел из моей спальни; он обещал оставаться неподалеку, на всякий случай. Прошел час, у меня за это время побывал доктор и, конечно, нашел меня в состоянии глубокого нервного шока и в гораздо худшем виде, чем в начале заболевания; после чего ты вернулся, молча взял все деньги, какие нашлись на столике и на камине, и ушел из дому, забрав свои вещи. Говорить ли, что я передумал о тебе за эти два дня, больной, в полном одиночестве? Нужно ли подчеркивать, что мне стало совершенно ясно: поддерживать даже простое знакомство с таким человеком, каким ты себя показал, будет для меня бесчестьем? Говорить ли, что я увидел - и увидел с величайшим облегчением, - что настал решающий момент? Что я понял, насколько мое Искусство и моя жизнь впредь будут свободнее, лучше и прекраснее во всех отношениях? И, несмотря на болезнь, я почувствовал облегчение. Поняв, что теперь наш разрыв непоправим, я успокоился. Ко вторнику мне стало лучше, и я впервые спустился вниз пообедать. В среду был мой день рождения. Среди телеграмм и писем я нашел у себя на столе письмо и узнал твой почерк. Я распечатал его с грустью. Я знал, что прошло то время, когда милая фраза, ласковое слово, выражение раскаяния могли заставить меня позвать тебя обратно. Но я глубоко обманулся. Я тебя недооценил. Письмо, которое ты прислал мне к дню рождения, было настойчивым повторением всего, что ты говорил раньше, все упреки были хитро и тщательно выписаны черным по белому. В пошлых и грубых выражениях ты снова издевался надо мной. Вся эта история доставила тебе единственное удовольствие - перед отъездом в город ты записал на мой счет последний завтрак в "Гранд-отеле". Ты похвалил меня за то, что я успел соскочить с кровати и стремительно броситься вниз. "Для вас это могло плохо кончиться, - писал ты, - хуже, чем вы себе воображаете". Да, я понял это тогда же, слишком хорошо понял! Я не знал, что мне грозило: то ли у тебя был тот револьвер, который ты купил, чтобы попробовать напугать своего отца, и, не зная, что он заряжен, выстрелил как-то при мне в зале ресторана, то ли твоя рука потянулась к обыкновенному столовому ножу, который случайно лежал между нами, на столике, то ли, позабыв в припадке ярости о том, что ты ниже ростом и слабее меня, ты собирался как-нибудь особенно оскорбить, может быть, даже ударить меня, больного человека. Ничего я не знал, не знаю и до сих пор. Знаю я только одно: меня охватил беспредельный ужас и я почувствовал, что, если я сейчас же не спасусь бегством, ты сделаешь или попытаешься сделать что-нибудь такое, от чего даже тебя до конца твоих дней мучил бы стыд. Только раз в жизни я испытал такой же ужас перед человеком. Это было, когда в мою библиотеку на Тайт-стрит в припадке бешенства ворвался твой отец со своим вышибалой или приятелем и, размахивая коротенькими ручками, брызжа слюной, выкрикивал все грязные слова, какие рождались в его грязной душе, все гнусные угрозы, которые он потом так хитро привел в исполнение. Но, разумеется, тогда выйти из комнаты пришлось не мне, а ему. Я его выставил. От тебя я ушел сам. Не впервые мне пришлось спасать тебя от тебя самого.
Ты закончил письмо такими словами: "Когда вы не на пьедестале, вы никому не интересны. В следующий раз, как только вы заболеете, я немедленно уеду". Какая же грубость душевной ткани сказывается в этих словах! Какое полное отсутствие воображения! Каким черствым, каким вульгарным стал твой характер! "Когда вы не на пьедестале, вы никому не интересны. В следующий раз, как только вы заболеете, я немедленно уеду". Сколько раз в омерзительных одиночках разных тюрем, куда меня сажали, я вспоминал эти слова! Я повторял их про себя и думал, хотя, быть может, и несправедливо, что в них кроется причина твоего странного молчания. То, что ты мне написал, когда я и болел только потому, что заразился, ухаживая за тобой, было, конечно, гадко, грубо и жестоко с твоей стороны, но для любого человека писать так другому было бы грехом непростительным, если только существуют грехи, которым нет прощения. Должен сознаться, что, прочитав твое письмо, я почти физически почувствовал себя замаранным, словно, общаясь с человеком такого пошиба, я навеки непоправимо осквернил и покрыл позором всю свою жизнь. Конечно, мысль была верная, но до какой степени верная, об этом я узнал только через полгода. А тогда я решил вернуться в пятницу в Лондон, повидаться лично с сэром Джорджем Льюисом и просить его написать твоему отцу и сообщить ему, что я решил ни в коем случае не пускать тебя в свой дом, не позволять тебе садиться со мной за стол, говорить со мной, гулять со мной, - словом, никогда и нигде не бывать в твоем обществе. После этого я написал бы тебе, только для того чтобы уведомить тебя о принятом мной решении, причину которого ты неизбежно должен был бы понять. В четверг вечером у меня все уже было готово, когда в пятницу утром, завтракая перед отъездом, я случайно развернул газету и увидел телеграмму, где говорилось, что твой старший брат, истинный глава семьи, наследник титула, опора всего дома, был найден в канаве, мертвый, а рядом с ним лежал его разряженный револьвер. Ужасающие обстоятельства, при которых разыгралась эта драма, - несчастный случай, как выяснилось впоследствии, но тогда связывавшийся с самыми мрачными предположениями, горечь при мысли о внезапной смерти юноши, столь любимого всеми, кто его знал, почти накануне его женитьбы, представление о том, каким горем стала или должна была стать для тебя эта потеря, мысль о том, что значит для твоей матери смерть сына, который был ей утешением, радостью в жизни и, как она сама мне однажды сказала, никогда, с самого дня рождения, не заставил ее пролить ни одной слезы; то, что я понимал, как ты сейчас одинок, потому что оба твои брата уехали в Европу, и твоей матери, твоей сестре больше не к кому, кроме тебя, обратиться не только за поддержкой в их горе, но и за помощью в тех горестных и страшных обязанностях, которые Смерть налагает на нас, заставляя заботиться о мрачных мелочах; живое ощущение lacrimae rerum [слезы по поводу разных обстоятельств (лат.)], - все эти чувства и мысли, обуревавшие меня в тот час, вызвали во мне бесконечную жалость к тебе и твоей семье. Забылась вся горечь, вся моя обида на тебя. Я не мог обойтись с тобой в твоем несчастье так, как ты обошелся со мной во время моей болезни. Я тотчас же послал тебе телеграмму с выражением глубочайшего соболезнования, а в письме, посланном вслед за этим, пригласил тебя к себе, как только ты сможешь приехать. Я чувствовал, что, если оттолкнуть тебя в такую минуту, да еще официально, через моего поверенного в делах, это будет слишком тяжело для тебя. Вернувшись в город оттуда, где произошла эта трагедия, ты сразу пришел ко мне, такой милый и простой, в трауре, с покрасневшими от слез глазами. Ты искал помощи и утешения, как ищет их дитя. Я снова принял тебя в свой дом, в свою семью, в свое сердце. Я разделил твое горе, чтобы тебе стало легче снести его, ни разу, не единым словом, я не напомнил тебе о твоем поведении, о возмутительных сценах, возмутительном письме. Мне казалось, что горе твое, настоящее горе, больше, чем когда-либо, сблизило нас с тобой. Цветы, которые ты взял от меня, чтобы положить на могилу брата, должны были стать символом не только его прекрасной жизни, но и красоты, что скрыта в любой жизни, в той глубине, откуда ее можно вызвать на свет.