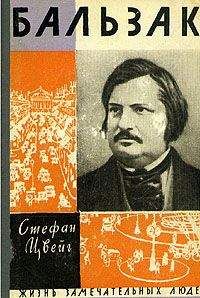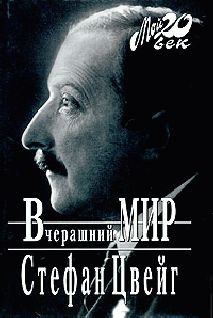Стефан Цвейг - Вчерашний мир
Можно спорить о том, все ли в Достоевском понял Цвейг, но главное он, безусловно, схватил: устойчивость и новизну реализма, а также то, что "трагизм каждого героя Достоевского, каждый разлад и каждый тупик вытекает из судьбы всего народа".
Если героями Достоевского движет страсть, то Диккенс для Цвейга несколько излишне социален: он - "единственный из великих писателей девятнадцатого века, субъективные замыслы которого целиком совпадают с духовными потребностями эпохи". Но, по мнению Цвейга, не в том смысле, что Диккенс отвечал ее потребностям в самокритике. Нет, скорее в самоуспокоении, самоублажении. "...Диккенс - символ Англии прозаической", певец ее викторианского безвременья. Отсюда якобы и его неслыханная популярность. Она описана с таким тщанием и таким скептицизмом, будто пером Цвейга водил Герман Брох, испытывавший зависть к чужим, и прежде всего к цвейговским, лаврам. Но, может быть, дело в том, что в судьбе Диккенса Цвейг видел прообраз судьбы собственной? Она его беспокоила, и он пытался таким необычным способом освободиться от своей тревоги?
Как бы там ни было, Диккенс подан так, будто никогда не писал ни "Холодного дома", ни "Крошки Доррит", ни "Домби и сына", не изображал, что такое на самом деле британский капитализм. Разумеется, как художнику Цвейг отдает Диккенсу должное - и его живописному таланту, и его юмору, и его острому интересу к миру ребенка. Нельзя отрицать и того, что Диккенс, как отмечает Цвейг, "снова и снова пытался подняться до трагедии, но каждый раз приходил лишь к мелодраме", то есть в чем-то цвейговский его портрет верен. И все же он, портрет этот, приметно смещен, довольно далек от вожделенной объективности научного анализа.
Существует то, что можно бы наречь "писательским литературоведением"; оно имеет свои особенности. Оно не столько предметно, сколько непосредственно-образно; реже оперирует именами героев произведений, их названиями, датами; меньше анализирует и больше передает общее впечатление, эмоции самого интерпретатора. Или, напротив, залюбовавшись некоей деталью, оно выделяет ее, приподнимает, теряя интерес к художественному целому. Этой формой пользуются порой и профессиональные критики, если у них имеется соответствующий талант. Но есть у "писательского литературоведения" и своя, специфическая содержательная сторона. Рассматривая собрата, писатель не может, да порой и не хочет, быть к нему беспристрастным. Ведь у каждого художника свой путь в искусстве, с одними предшественниками и современниками совпадающий, а с другими - нет, сколь бы значительны они как мыслители и как сочинители ни были. Толстой, как известно, не любил Шекспира; и это, собственно, никак против него не свидетельствует - лишь оттеняет его самобытность.
Цвейговский очерк о Диккенсе - своего рода образчик "писательского литературоведения": Цвейг - с Достоевским и потому не с ним. В какой-то мере это можно сказать и о статье Цвейга "Данте", написанной в 1921 году. Творец "Божественной комедии" не его поэт, ибо там сделана попытка "привести весь мир к одной схеме", закон поставлен "выше милосердия, догма выше человечности". Это "высеченная в камне мысль средневековья", запредельная в своей величественности, то, до чего и не дотянешься, что больше почитают, чем читают. Цвейг как бы забывает, что Данте был бойцом, острейшим публицистом своего века, который сводил счеты с политическими противниками пером не хуже, чем иные мечом.
А все же Данте отдано должное. Дело даже не в признании, что он "видит все человеческое в единстве" - ведь эта идея близка самому Цвейгу. Замечательно, что Цвейг разглядел в средневековом поэте Данте певца новой эпохи, предтечу Ренессанса, творца итальянского языка и тем самым творца нации.
Работая над "Строителями мира", Цвейг невольно становился на позиции критика-профессионала: сохраняя приверженность "писательскому литературоведению" в форме, отходил от него в содержании. Может быть, это уже сказалось в статье о Данте? Во всяком случае, в статьях, написанных во второй половине двадцатых и в тридцатых годах, личные пристрастия Цвейга уже мало что определяли.
Хороша заметка об Э. Т. А. Гофмане (1929). На двух с небольшим страницах уместился его завершенный портрет. Он сложен из метких характеристик. Есть среди них и такая: "Своеобразным и неповторимым осталось навеки одно качество Гофмана - его удивительное пристрастие к диссонансу, к резким, царапающим полутонам, и кто ощущает литературу как музыку, никогда не забудет этого особенного, ему одному присущего звучания".
Интересна и рецензия на "Лотту в Веймаре" (1939). Она положительна, почти восторженна. Поскольку Цвейг был близок к Т. Манну, это не может вызвать удивления. Но есть одно обстоятельство. Темой Т. Манну послужил эпизод из жизни Гёте, то есть он написал биографический роман. А это совсем не цвейговский жанр. Однако Цвейг его принял: "Беллетризированная биография, непереносимая, когда она романтизирует, приукрашивает и подделывает, впервые обретает здесь законченную художественную форму, и я глубоко убежден, что для грядущих поколений вдохновенный шедевр Томаса Манна останется единственно живым воплощением великого Гёте".
Все эти работы собраны в сборнике "Встречи с людьми, городами, книгами" (1937). Так как туда включены и отклик на юбилей Горького, и воспоминания о Ф. Мазереле, А. Тосканини, Г. Малере, и речи у гроба А. Моисси и Й. Рота, его можно рассматривать в качестве своего рода прелюдии к "Вчерашнему миру".
Но "Вчерашний мир" больше чем мемуары. Это - итог, подведенный творчеству и, главное, жизни Цвейга, последний аккорд, без которого они выглядели бы менее завершенными и который можно по-настоящему воспринять лишь в контексте этого творчества, этой жизни.
* * *
Еще в предисловии к "Поэтам своей жизни" Цвейг рассуждал о мучительных трудностях писания автобиографий: то и дело соскальзываешь в поэзию, ибо сказать о себе истинную правду почти немыслимо, легче себя заведомо оклеветать. Так он рассуждал. Но, оказавшись за океаном, утратив все, что имел и любил, тоскуя по Европе, которую отняли у него Гитлер и развязанная фашистами война, писатель взвалил себе на плечи эти мучительные трудности. Впрочем, можно ли назвать "Вчерашний мир" автобиографией? Скорее, это биография эпохи, подобно гётевской "Поэзии и правде". Как и Гёте, Цвейг стоит, конечно, в центре своего повествования, но не он главное. Автор связующая нить, носитель определенного знания и опыта, некто, не исповедующийся, а рассказывающий о том, что наблюдал, с чем соприкасался. Словом, "Вчерашний мир" - это мемуары, но и нечто большее, ибо на них лежит явственный отпечаток личности автора, всемирно известного писателя. Она видна в оценках, даваемых людям, событиям и прежде всего эпохе в целом. Еще точнее: двум сравниваемым и противопоставляемым эпохам - рубежу прошлого и нынешнего столетия, с одной стороны, и временам, в которые книга писалась, - с другой.
Десятилетия, предшествовавшие первой мировой войне, Цвейг определил как "золотой век надежности" и в качестве убедительнейшего примера тогдашних стабильности и терпимости избрал Австро-Венгерскую империю. "Все в нашей тысячелетней австрийской монархии, - утверждал Цвейг, - казалось, рассчитано на вечность, и государство - высший гарант этого постоянства".
Это - миф. "Габсбургский миф", и по сей день довольно распространенный, несмотря на то, что империя рухнула, что задолго до крушения жила, что называется, попущением Господним, что была раздираема непримиримыми противоречиями, что слыла историческим реликтом, что если и не держала подданных в узде, то лишь по причине старческого бессилия, что все ее крупные писатели, начиная с Грильпарцера и Штифтера, ощущали и выражали приближение неминуемого конца.
Социальный опыт Цвейга был весьма скромен. Он был писателем, вращающимся в кругах европейских литераторов и богемы, был представителем того меньшинства, которое пользовалось плодами физического и умственного труда миллионов себе подобных. Рабочих Цвейг видел лишь издалека и пишет о них с некоторой опаской; путешествия в прифронтовую зону, в поезде с ранеными были для него событиями необычайными, не укладывающимися в размеренное течение его спокойной, обставленной комфортом жизни. Поэтому нельзя не сказать о том, что мир Цвейга - это лишь небольшая, лучшая часть того мира, который окружал писателя, в то время баловня судьбы. Именно эта принадлежность к сравнительно немногим избранным, почти полное незнание народа и предопределили тон и настрой повествования автора.
"Габсбургский миф" однозначен, но не однозначна приверженность этому мифу. Проще всего было бы объявить автора "Вчерашнего мира" ретроградом и отвернуться от его книги. Это было бы проще всего, но вряд ли правильнее всего. Цвейг - не единственный из австрийских писателей, кто пришел к приятию, даже ностальгическому прославлению старой, как бы сметенной ветром истории императорской Австрии. Для некоторых тот же путь оказался еще более крутым, еще более неожиданным, еще более парадоксальным. Й. Рот, Э. фон Хорват, Ф. Верфель начинали в двадцатые годы как художники левые (подчас с левацким уклоном), а в тридцатые годы почувствовали себя монархистами и католиками. То не было их изменой, то было их австрийской судьбой. Рот однажды сказал И. Эренбургу: "Но вы все-таки должны признать, что Габсбурги лучше, чем Гитлер..." Альтернатива странная, но в контексте этой судьбы понятная. Гитлер, фашизм - это в глазах Рота прежде всего нетерпимейший, воспаленный, до зверства доведенный национализм, а Габсбурги ассоциировались у него с доктриной наднационального и в этом смысле терпимого. В то же время Гитлер с его "аншлюсом" отнял у австрийца Рота родину, и отнятая родина воплотилась в Габсбургах. Спору нет, чисто австрийская дилемма застила ему мир. Но это не мешает ему в лучших своих вещах - таких, как роман "Марш Радецкого" (1932), - критиковать ничтожество австрийской монархии, но только в критике прослушиваются звуки реквиема. Прослушиваются они даже в "Человеке без свойств" Р. Музиля (романе, над которым он работал все межвоенные годы и который так и не закончил), хотя для Музиля "эта гротескная Австрия - ...не что иное, как особенно явственный пример новейшего мира" 1. В форме предельно заостренной он находил в ней все пороки современного буржуазного бытия.