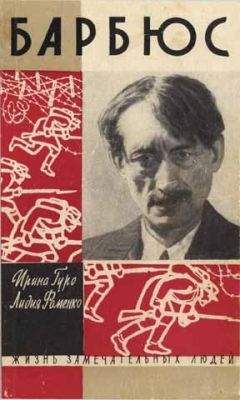Анри Барбюс - Огонь
* * *
- Погляди, этого ухлопали как будто давно, а...
На шее почти иссохшего тела зияет свежая рана.
- Это крыса... - говорит Вольпат. - Трупы старые, но их жрут крысы... Видишь дохлых крыс? Может быть, они отравились; вот их сколько вокруг каждого трупа. Да вот этот бедняга сейчас покажет нам своих крыс.
Он приподнимает ногой распластанные останки, и действительно мы видим под ними двух дохлых крыс.
- Мне хочется найти Фарфаде, - говорит Вольпат. - Я ему крикнул, чтоб он подождал минутку, помнишь: когда мы бежали и он за меня ухватился. Бедняга! Если б он только дождался!
Он ходит взад и вперед, его влечет к мертвецам какое-то странное любопытство. Они равнодушно отсылают его друг к другу; на каждом шагу он всматривается в землю. Вдруг он испускает отчаянный крик. Он машет нам рукой и становится на колени перед каким-то трупом.
- Бертран!
Мы чувствуем острую, щемящую боль. Значит, он тоже убит, а ведь он больше всех воздействовал на нас своей волей и ясностью мысли! Он пал, он пал, как всегда исполняя свой долг. Он нашел смерть на поле брани!
Мы глядим на него, отворачиваемся и смотрим друг на друга.
- А-а!..
Отвратительное зрелище! Смерть придала нелепо смешной вид человеку, который был так спокоен и прекрасен. Волосы растрепались и упали на глаза, усы мусолятся во рту, лицо распухло; мертвец смеется. Один глаз широко раскрыт, другой закрыт, язык высунут. Руки раскинуты крестом, пальцы растопырены. Правая нога тянется в сторону; левая - вывихнутая, влажная, бескостная; она пробита осколком; это и вызвало кровотечение, от которого, наверно, умер Бертран. По иронии судьбы, он дергался в предсмертных судорогах, как паяц.
Мы его бережно выпрямляем и укладываем, мы возвращаем покой этой страшной маске. Вольпат вынимает из кармана убитого бумажник, чтобы отнести в канцелярию, и благоговейно кладет среди своих бумаг, рядом с фотографией своей жены и детей.
- Да, брат, это был настоящий человек! Если он что говорил, ему можно было верить. Эх, как он был нам нужен!
- Да, - отвечаю я, - он всегда был бы нам нужен.
- Беда!.. - бормочет Вольпат и дрожит.
Жозеф шепотом повторяет:
- Эх, черт подери, эх, черт подери!
По равнине снуют люди, как на городской площади. Идут отряды, посланные на работу, и солдаты-одиночки. Санитары терпеливо и старательно приступают к своей непосильной работе.
Вольпат уходит в траншею сообщить товарищам о наших новых утратах и особенно о великой потере: о смерти Бертрана. Он говорит Жозефу:
- Не будем терять друг друга из виду! Ладно? Время от времени пиши просто: "Все хорошо. Подпись: Камамбер". Ладно?
Он исчезает среди людей, столпившихся на этом пространстве, которым уже завладел мрачный, бесконечный дождь.
Жозеф опирается на мою руку. Мы спускаемся в овраг.
Откос, по которому мы спускаемся, называется "Ячейки зуавов"... Здесь во время майского наступления зуавы начали рыть индивидуальные прикрытия, у которых их и перебили. Некоторые убиты на самом краю ямы и еще держат в истлевших руках кирку-лопату или смотрят на нее глубокими черными глазницами. Земля так переполнена мертвецами, что после обвалов обнаруживаются целые заросли ног, полуодетых скелетов, груды черепов, валяющихся на стене, как фарфоровые чаши.
Здесь, в недрах земли, лежит несколько пластов трупов; во многих местах снаряды вырыли самые старые из них и бросили на новые. Дно оврага сплошь устлано обломками оружия, клочьями белья, остатками утвари. Мы ступаем по осколкам снарядов, железной рухляди, кускам хлеба и даже сухарям, выпавшим из ранца и еще не размытым дождями. Миски, коробки консервов, каски пробиты пулями и кажутся шумовками всевозможных видов, а уцелевшие вывернутые колья продырявлены.
В этой низине окопы похожи на сейсмические трещины, и кажется, что на развалины после землетрясения вывалились целые возы разных предметов. А там, где нет мертвецов, сама земля стала трупом.
У поворота извилистого рва мы пересекаем Международный ход, все еще трепещущий разноцветными лохмотьями; беспорядочные кучи сорванных тканей придают этой траншее вид убитого существа. Во всю длину, до земляной баррикады, навалены трупы немцев; они переплелись, они извиваются, как потоки осужденных грешников в аду; некоторые высовываются из грязных гротов, среди невообразимого нагромождения балок, веревок, железных лиан, туров, плетней и щитов. На этой баррикаде виден труп; он воткнут стоймя в кучу других трупов; там же, но в зловещей пустоте, наклонно стоит другой; все вместе это кажется большим обломком колеса, увязшего в грязи, оторванным крылом мельницы, и среди всего этого разгрома, среди нечистот и разлагающихся тел валяются открытки, иконки, благочестивые книжонки, листки с молитвами, отпечатанными готическим шрифтом; все это выпало из разодранных карманов. Испещренные словами бумажки, казалось, украсили тысячами белых цветов обмана и бесплодия эти зачумленные берега, эту долину уничтожения.
Я ищу надежное место, чтобы провести Жозефа; он постепенно теряет способность двигаться; он чувствует, как боль распространяется по всему телу. Я его поддерживаю; он уже ни на что не смотрит, а я смотрю на это разрушение.
Прислонившись к расщепленным доскам разбитой караульной будки, сидит унтер. Под глазом у него маленькая дырка: удар штыка в лицо пригвоздил его к этим доскам. Перед ним сидит человек, упершись локтями в колени, подперев кулаками шею; у него снесена вся крышка черепа; это похоже на вскрытое яйцо всмятку. Рядом с ним, как чудовищный часовой, стоит полчеловека: человек расколот, рассечен надвое от черепа до таза, он прислонился к земляной стенке. Неизвестно, куда делась вторая половина этого кола; глаз повис вверху; синеватые внутренности спиралью обвились вокруг единственной ноги.
Мы наступаем на согнутые, искривленные, скрюченные французские штыки, покрытые запекшейся кровью.
Сквозь брешь насыпи виднеется дно; там стоят на коленях, словно умоляя о чем-то, трупы солдат прусской гвардии; у них в спинах пробиты кровавые дыры. Из груды этих трупов вытащили к краю тело огромного сенегальского стрелка; он окаменел в том положении, в каком его застигла смерть, скрючился, хочет опереться о пустоту, уцепиться за нее ногами и пристально смотрит на кисти своих рук, наверно срезанных разорвавшейся гранатой, которую он держал; все его лицо шевелится, кишит червями, словно он их жует.
- Здесь, - говорит проходящий альпийский стрелок, - боши хотели проделать фортель: они выкинули белый флаг, но им пришлось иметь дело с "арапами", и этот номер не прошел!.. А-а, вот и белый флаг; им и воспользовались эти скоты!
Он подбирает с земли и встряхивает длинное древко; белый квадратный лоскут невинно развевается.
...Вдоль разбитого хода открывается шествие солдат; они несут лопаты. Им приказано засыпать окопы, чтобы тут же похоронить всех мертвецов. Так эти труженики в касках совершат дело правосудия: они вернут полям обычный вид, засыплют землей рвы, уже наполовину заваленные трупами захватчиков.
* * *
По ту сторону прохода меня окликают: там, прислонясь к колу, на земле сидит человек. Это дядюшка Рамюр. Из-под расстегнутой шинели и куртки на его груди видны повязки.
- Санитары меня перевязали, - говорит он глухим голосом, - но не смогут унести отсюда раньше вечера. Я знаю, что помру с минуты на минуту.
Он покачивает головой и просит:
- Побудь немного со мной!
Он взволнован. Из его глаз текут слезы. Он протягивает мне руку и удерживает меня. Ему хочется многое сказать мне, почти исповедаться.
- До войны я был честным человеком, - говорит он, глотая слезы. - Я работал с утра до ночи, чтобы прокормить семью. И вот я пришел сюда убивать бошей... А теперь меня самого убили... Послушай, послушай, не уходи, послушай!..
- Мне надо отвести Жозефа; он еле стоит. Я вернусь.
Рамюр поднимает на Жозефа заплаканные глаза.
- Как? Он не только жив, но еще и ранен? Избавлен от смерти? А-а, везет же некоторым женам и детям! Ну, ладно, отведи его и приходи обратно!.. Может быть, я еще дождусь тебя...
Теперь надо взобраться на другой склон оврага. Мы проникаем в бесформенное изувеченное углубление старого хода 97.
Вдруг воздух раздирают остервенелые свистки. Над нами проносится шквал шрапнели... В недрах бурых туч сверкают и рассыпаются страшным дождем аэролиты. Выстрелы грохочут, взвиваются в небо, разбиваются о склоны, разворачивают холмы и вырывают из них старые кости мира. И громовые пожары вспыхивают по всей линии.
Опять начинается заградительный огонь.
Мы, как дети, кричим:
- Довольно! Довольно!
В этом неистовстве смертоносных машин, механического разрушения, преследующего нас повсюду, есть нечто сверхъестественное. Я держу Жозефа за руку; он оглядывается, смотрит на ливень взрывов, как затравленный, обезумевший зверь, и только бормочет: