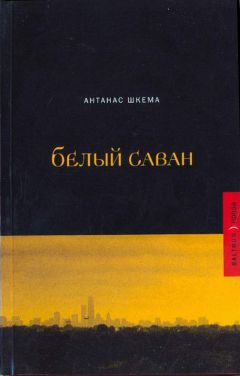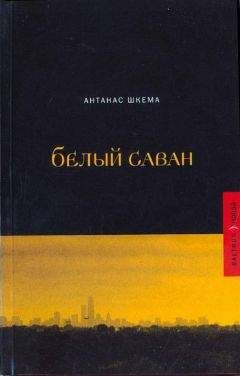Антанас Шкема - Белый саван
— Не бойся, Нукас, не бойся. Солдаты балуются. Им скучно, днем выспались, вот и стреляют понарошку, и кричат просто так. Пойдем, маленький, спать. Спокойной ночи, Илья Иванович. Уходите.
Она принимается укачивать Мартинукаса, точно младенца, на руках и уносит в другую комнату. Медведенко проводит ладонью по взмокшему лбу, ему ничего не остается, как уйти.
— Нет-нет, это была бы величайшая глупость! Мицкявичюс, какой-то Мицкявичюс. «Мы занимаемся только поляками». И тогда я заговорил по-польски. Царские рубли он, разумеется, взял. Транспорт уходит через неделю. Надо сидеть в Таганроге и ждать. Поедем через Харьков. Помнишь, Вера, какой там красивый вокзал? Нас еще ожидают формальности в Минске. Думаю, из Минска нас уже не вернут. Что ты там увязываешь, Вера?
Вилейкис острым коленом надавливает на крышку чемодана. Вера своими тонкими пальцами связывает в узел одеяло и подушки. Первые лучи солнца уже скользят по оконным рамам, над степью поднимается голубой туман, в соседней комнате на кровати прямо на голых пружинах спит Мартинукас. Внизу, под окнами, фыркает лошадь, и мужской голос миролюбиво ее уговаривает.
— Стой, длинноногая, стой, все равно овса не получишь. Все, говорю тебе, все. Баста.
— Скорей, Вера, поторапливайся. Неловко, человек ждет. Сорок верст по степи. Это не шутки, Вера. Ну, что, закончила сборы?
Он выпрямляется, весь какой-то желтый, нервный, слишком резвый.
— Не умеешь завязывать! Дай мне.
Он обнимает ее за талию, но Вера выскальзывает из объятий.
— Иша-ак…
Голубой туман плывет, плывет ввысь. Солнечные лучи разрезают пространство красными лезвиями. Мартинукас похрапывает с закрытым ртом, и Вере кажется, что ребенка душат чьи-то невидимые руки. Вилейкис, согнувшись под огромным узлом, с трудом спускается вниз по лестнице.
— Иша-ак, — снова произносит она. Мозг впитывает этот поднимающийся туман. В мозгу происходит странное колыхание, она совершенно явственно чувствует, как в макушке отдаются все нарастающие удары.
— Уже четыре, — объявляет голос внизу.
…Вернулся муж, уже четыре, говорит кто-то. Муж, может, когда ему вздумается. Мозг раскален, мозг дымится. Медведенко, где ты, Медведенко? Давай разбудим Нукаса, выпьем чаю, отправимся на прогулку, а он пускай себе уезжает, мне плохо, мне так нехорошо.
Пресвятая Богородица, ох, как мне плохо, я выпрыгну в окно, дайте мне коня, белого, моего отца, кли-кли-кли-кли, я хочу домой, о-о-о, о…
Когда Вилейкис входит в комнату и берет два чемодана, она говорит:
— Я не поеду.
— Что?!
— Вы отправляйтесь, езжайте. А я поскачу назад.
— Послушай, Вера…
— Молчи! Молчи, ты… птица. Знаешь, кто ты? Или не знаешь? Ты желтая птица.
Вилейкис ставит чемоданы на пол, поднимает их, снова ставит. Ерошит свои волосы обеими руками. Хватает со стола шляпу. Нахлобучивает ее на голову.
— Вера, — цедит он сквозь зубы.
По улице бредет Медведенко. Сапоги у него все в пыли, щеки покрыты щетиной. Он ни о чем не думает. У него остались разве что одни глаза. Всю ночь напролет он блуждал по улице возле школьного строения. Двадцать шагов вперед, двадцать шагов назад. Он как раз остановился и приник к забору, когда Вилейкис с каким-то мужиком подъехали к дому на громыхающей телеге.
Потом он смотрел, как Вилейкис зажег огарок свечи на втором этаже и стал раздеваться. Услышал, как тот сказал у окна: «Понимаешь, мы с Анупенко решили вернуться. Хороший мужик, этот Анупенко. Подремлет пару часов, запряжет лошадь и… Утром в четыре мы уезжаем, Вера. Сейчас переоденусь и будем укладываться. Давай, Вера, собирайся». Рядом с Вилейкисом стояла женщина в ночной рубашке, видно, вскочила с постели. Эту женщину Медведенко мучительно любил. Сквозь ночную рубашку просвечивало женское тело. И тут Вилейкис захлопнул окно, задвинул занавески. А Медведенко ушел в сад и начал там бродить из конца в конец. Двадцать шагов вперед, двенадцать шагов назад… Пока не побледнел небосвод и воздух не напитался утренним туманом. Он сел на камень и так сидел. Почти совсем рассвело, уже в который раз пропели петухи, и снова подъехал Анупенко. Тогда учитель поднялся с камня, перемахнул через поваленный забор и двинулся по улице к своему дому. И когда увидел побеленную стену, дверную притолоку с аккуратно расставленными там на специальной полочке глиняными горшками, развернулся и зашагал назад.
— Домой хочу, — говорит Вера.
Медведенко стоит, ухватившись за дверной косяк, и смотрит Вилейкису в глаза. В комнате больше нет вещей. Только мебель и люди.
— Домой хочу, — мычит Вера.
Медведенко подходит ближе. Он видит подрагивающее адамово яблоко и беспокойные глаза.
— Оставьте ее здесь.
— Ну, что, готовы? — приглушенным голосом кричит снизу человек. Вилейкис разворачивается, идет в другую комнату и трясет Мартинукаса. Тот вскакивает, протирает глаза.
— Уже пора, папа?
— Пора, Нукас.
— А мне весело, папа.
Вилейкис крепко сжимает бессильно повисшую Верину руку выше локтя.
— Пошли, Вера.
— Идем, мама!
Вера протягивает левую руку. Медведенко наклоняется и целует холодные пальцы.
— Прощайте, Вера Александровна.
— Прощайте, Илья Иванович.
— Прощайте, Медведенко. Спасибо за все.
— Прощайте, Вилейкис.
И Вера идет следом за мужем, а тот по-прежнему держит ее повыше локтя. Мартинукас топает за ними, удивляясь, почему это взрослые молчат, словно провинившиеся дети.
— До свидания, господин учитель, — весело говорит он от дверей, но Медведенко ему не отвечает.
В комнате среди мебели остается всего один человек. Внизу фыркает лошадь, скрипят несмазанные колеса телеги.
— Вот и уехали, — размыкает губы Медведенко. Прямо перед ним стоит настежь распахнутый платяной шкаф. Дверцы легонько ходят туда-сюда, внутри болтается забытая вешалка. На столе ломоть хлеба, недоеденные помидоры. Пахнет пылью.
— Вот и уехали, — еще раз повторяет Медведенко и зажимает в кулаке жесткие рыжие усы.
Сальто-мортале
Их выстроили во дворе, у забора, огораживающего сад. Анупенко, Вилейкиса, Мартинукаса, Веру. И выстроены они совсем не по росту. Анупенко, низкорослый мужичок со злобным лицом, усыпанным вокруг носа крупными веснушками. Он все время морщится, как будто нюхает лимон. Через забор прямо перед ним свисает ветка, ее листва заслоняет лицо военного комиссара. Анупенко видит лишь плотно сжатые губы. Вот точно так же сжимал губы их бывший помещик в Даниловском, когда выходил прогуляться вокруг поместья и заодно выбранить как следует ленивых хохлов. «И чего он молчит, этот тонкогубый, чтоб его черти с квасом съели», — спрашивает себя Анупенко. У Вилейкиса дрожит правая нога. Левая выставлена вперед, и поэтому Вилейкис выглядит горделиво. «Мама!» — шепчет Мартинукас, уставившись на ногу отца. «Т-с-с», — отвечает Вера, на миг блеснула узкая полоска зубов и снова исчезла.
Макушка солнца торчит над хлевами, но в крыши уже вцепились красные руки.
«Лицо у него напоминает тех офицеров, которые преследовали меня у ворот пансиона», — мелькает в голове у Веры.
«Мы лито-о-овцы», — мысленно твердит Вилейкис, не проронив ни слова.
Красноармейцы все еще дрыхнут в телегах. Только рядом с комиссаром стоят четверо. Те самые, что шлялись по улице и схватили лошадь под уздцы. Один из них зевает, остальные пытаются стоять спокойно, опираясь на винтовки.
— Так-так, — наконец произносит комиссар.
— Господин комиссар… — вырывается у Вилейкиса.
— Ваши документы.
Вилейкис достает из бокового кармана пиджака толстый конверт. «Или мне подойти, или он сам?» — размышляет Вилейкис. «Теперь Антанас вылитый Лермонтов, вернее, его памятник», — осеняет Веру. «Черт меня дери, Николай Чудотворец, смилуйся», — молит Анупенко. «Мне холодно», — думает Мартинукас. «Придется жестоко покарать, что поделаешь, придется жестоко покарать», — обмозговывает комиссар Василевский. «Стерва», — решает красноармеец, которого так и тянет на зевоту. Остальные трое ни о чем не думают, просто зверски хотят спать.
Комиссар подходит к Вилейкису, берет конверт и начинает изучать документы. Он бросает взгляд на зевающего красноармейца и тихо говорит:
— В Литву бегут.
— Ясно, — равнодушно расшлепывает тот губы. Голова его запрокинута наверх. Голубые глаза блуждают в небе. Желтоватая бородка лихо торчит. Буденовка надвинута на самый лоб, матерчатая пятиконечная звезда едва держится, и его розовощекое лицо выглядит вполне симпатичным.
— Чудесное утро.
Василевский вскидывает тонкую бровь. «Сволочь, опять за свое принялся».
— У него имеется разрешение на поездку в Минск, товарищ Петров. Он получил его обманным путем в Таганроге. А вот у местного коменданта не спросился. Таким образом, господин Антанас Вилейкис — дезертир.