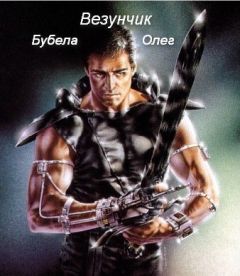Олег Постнов - Страх
— Ты хочешь меня изнасиловать? — кинула она зло. И тут я увидел ее глаза.
Позволю себе небольшой комментарий. Он займет (старый добрый прием!) как раз то время, что мне понадобилось, чтобы прийти в себя. Итак. Середина прошлого века. Скучные шестидесятые. Отель где-то в Европе, в европейской глуши. И автор «Игрока» у ног своей голой любовницы, на сей раз твердо отказавшей ему в любви. Он встает с колен и хрипло цедит бессмертную (по своей глупости) фразу:
— Русские так не уходят… (Кто не верит, см.: Лосский. Бог и Мировое Зло. Страницы не помню).
Но я никогда не чувствовал себя особенно русским. Мне было плевать на самолюбие. Мне было плевать на всё. Зная, что губы мои дрожат, я все же спросил, почему. Вот так: «Господи, почему?!» Она молчала долго. Потом медленно произнесла:
— Я не хочу тебя… — и смолкла будто на полуслове.
И тут я зарыдал. Не стану оправдываться. Как бы там ни было, человек имеет право — раз в жизни — на слезы. Он вправе оплакать свою жизнь.
Это продолжалось час или дольше. Я сидел на краю койки. Тоня тихо ждала. Коробка салфеток — tissues — подошла к концу. Пол был усыпан ими. Я собрал их, смял в один ком и унес в клозет. Тем временем догорели ханукальные свечи. Мы остались во тьме. Я лег к себе в постель, свернувшись, как мог, и проснулся утром с невозможной, чудовищной, адской головной болью. Кое-как я нашел в вещах тайлинол и еще забылся на час. Когда я снова открыл глаза, номер показался мне необычно пуст и, подняв голову с подушки, я увидел, как Тоня застегивает на полу свою плотно уложенную дорожную сумку. За окном было солнце.
— Ты можешь остаться, — сказала она просто. — Я уезжаю.
К моему изумлению, я увидел темные пятна у ее глаз.
— Ты не спала? — спросил я.
Она отвернулась.
— Ну что ж, — сказал я бодро и вскочил с постели. — Будем считать, отдых кончен. Океан надоел. Администрация удивится. Но я тоже хочу домой.
— Тем лучше, — сказала Тоня.
Формальности не заняли и пяти минут.
Я побросал пожитки в свой сак и свернул его. В последний раз нам подали «додж» — и вот уж мы катили на восток по раскаленному асфальту. От вчерашнего ливня не осталось ни капли.
— Он сказал, что любит ее безумно. Она сказала, что хочет пива, — произнес я.
— Хемингуэй? — спросила Тоня.
— Почти, — я кивнул. — Моя стилизация. Похоже?
— Она сказала, что хочет бензина, — сказала Тоня, быстро сворачивая к колонке. Это была правда: счетчик был на нуле. В отличие от «района трех штатов» (Tri-State area, Нью-Джерси в том числе), во Флориде путники на заправочных станциях сами поят топливом своих зверей. Тоня вышла в жару, хлопнув дверцей. На востоке опять собрался дождь. Но мы успели как раз к самолету. Я взял билет до Нью-Арка с пересадкой в Атланте: не хотелось опять лететь в Нью-Йорк и после плестись автобусом целый час. Тоня выбрала какую-то безродную дешевую компанию — что-то вроде «Wings Jet» — и ушла в свой зал ожидания, на другом конце порта. Она улетела за пять минут до меня. Не помню, что она мне сказала в конце. Очень может быть, что ничего. В Нью-Арке шел снег, и я достал свой пуховик, еще хранивший тепло невесть как попавшего на него в Майами солнца. Северный холод тотчас прохватил его.
— А кстати, — вспомнил я (это было в «Секрете», когда я перевел дух и вновь рассмотрел давно знакомые ее родинки и соски). — Ты уверена, что сделала тогда аборт?
— О чем ты говоришь? — спросила она по-английски.
— О том, не случалось ли тебе — может быть, в другой раз, раньше — как-нибудь забыть его сделать. А?
Я ждал, что она ответит «Ты спятил?» — или что-нибудь в этом роде. Или попросту «нет».
— Это тебе безынтересно, — сказала она.
XLIII
— Да, тут уже кофе мало, — вздохнул верный Люк. — Для таких случаев у меня есть что покрепче.
Он нырнул под прилавок и выхватил оттуда бутылку скотч-виски — с тем всегдашним своим проворством, с которым прежде Подавал мне том Говарда или По. Был опять вечер, с сугробами у крыльца. О Майами я сказал только, что уик-энд удался. Но, верно, по моему виду он заключил безошибочно о настоящем положении дел и принял свои меры. Впрочем, этот вопрос — о действительном значении происшедшего со мною — был мне самому не вполне ясен, так что я предпочел пока молчать и даже не позвонил Джею. Лавка Люка была погружена в полутьму: верхний свет не горел, лишь какой-то огонек в кофеварке да блики уличных фонарей, совсем бледные и неявные, проникали внутрь сквозь стеклянную входную дверь, расположив в прихотливом порядке изломы тени на полу и стенах. В их свете стеллажи с книгами выглядели особенно загадочно и притягательно, там чудилось чье-то непугающее присутствие, настраивавшее мысль на возвышенный лад. «Прочти меня… ночью…» Однако если прежде, еще в Москве, я страдал много лет подобием душевного обморока, то теперь вместо него наступило оцепенение, против которого был бессилен даже Люков зеленый змий. Я, впрочем, никогда не верил в этот напиток, сгубивший отца Гека Финна, причем было похоже, что Люк догадался об этом, ибо, насколько помню (я в один миг захмелел), завел под конец речь о том, что русским нужна водка, или, может быть, персонально мне нужна русская водка (это слово он произнес с долгим, богатым и полным гулких пустот звуком «w»), после чего сопроводил меня домой и ушел, лишь узрев, что я ориентируюсь в своей прихожей. Джею я так и не позвонил. Впрочем, он вряд ли ждал меня раньше начала недели.
Когда я проснулся утром, то понял, что у меня началась третья жизнь (термин Газданова). Я, правда, не стал пока бросать работу, забывать дела и знакомства и делаться чем-то вроде страдательного придатка собственной мании, нет; тем не менее я ощутил — и теперь ощущал остро и ясно, — что все главное уже позади, а сам я в качестве читателя своей жизни (парафраз Кузмина) уже, собственно, окончил повесть и листаю комментарий, который ничего не может изменить, или прибавить к случившемуся, по существу. Именно в такое время мне опять попался под руку рассказ По и взволновал меня куда больше, чем подскочивший ко мне за два дня до этого в метро крупный метис с ножом, потребовавший театральным шепотом мой кошелек; «или жизнь?» — нужно было его спросить. Но я лишь полюбопытствовал, не зовут ли его Джо, чем, кажется, сильно смутил его.
Левонский меж тем опять обдумывал и частично стал осуществлять свой прежний план (пресловутую серию американских классиков на русском языке) и совершенно уже не был увлечен идеей издания того безвестного бедняги из России, которого только что перед тем «открыл». Он так же все попивал чай — он любил чай на славянский манер, — беззлобно пошучивал в пространство, спрашивал, ни к кому не обращаясь, правда ли то, что людям порой нужна беда (шел дождь), и неизменно замечал в хорошую погоду, что Колумб был прав. Это вообще было на него похоже. Мне, в общем, было все равно, хотя движение планов вспять и прибавило мне работы, в том числе переводческой, благо, дело было неспешное, рассчитанное на года. Я, таким образом, имел времени более чем достаточно для того, чтобы предаваться своему новому состоянию, мало, впрочем, зависевшему от того, хотел я этого или нет. Часами, сидя у себя, раскладывал я шулерские картинки Скопинни. Но если в моей судьбе и был какой-нибудь иероглиф, я не сумел его понять.
Джей искренне сочувствовал мне и всеми силами вытаскивал меня на природу, приглашал принять участие то в пикнике, то в автомобильной прогулке, то вдруг объявлял, что сам он занят, но что жена его как раз купила два билета на бродвейский мюзикл, ведь я же, кажется, всегда любил театр? И я покорно скользил по бессчетным дорогам Нью-Джерси, откинувшись в неправдоподобно уютном кресле «лексуса», или полз бесшумным эскалатором куда-то на третий этаж вдоль стеклянной стены, под которой распахивалась кишащая огнями пропасть проспекта и где действительно был театр с идиотскими декорациями и гнусного вида труппой, очень толково и с юмором представлявшей зрителям — чуть пьяным в честь саббат евреям — «Любимый Костюм Иосифа». И весь зал смеялся и рукоплескал.
Но со всем тем мой душевный недуг не оставлял меня. В нем в самом деле было что-то литературное или театральное, вроде того, как, зайдя в антракте за кулисы, можно потрепать по щеке Короля Лира или чмокнуть Джульетту в плечо. Так, например, убрав прочь с камина карточку Тони, я был уверен, что порываю с чем-то уже навеки, навсегда (обычная взрослая глупость), но не прошло и недели, как сама она запросто позвонила мне из столицы, осведомляясь, здоров ли я и хорошо ли долетел. Беседа, однако, вышла небывало пустой, как и следовало, конечно, из общего замысла рока, но зато стала повторяться каждый месяц, лишив убедительности такие слова, как «разлука» или «разрыв»: ими я имел претензию себя утешать. Меж тем ее голос в трубке ничем не отличался от всегдашнего, так что можно было подумать, что стоит мне ночью сесть в лодку и проплыть сто верст по реке (виноват, сто ярдов к пруду), как на мели я встречу ее во всегдашнем ее белом платье. И даже река была где-то рядом. Только я больше не верил в нее, — ни в речных фей. В конце концов, так было легче.