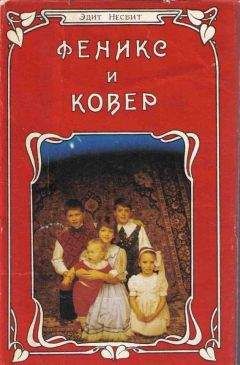Владимир Набоков - Под знаком незаконнорожденных
Круг, жестом прервав его, скорчил страшную рожу. Толпа замерла в бездыханном ожидании. Оглушительным чихом Круг разодрал тишину.
– Глупые люди, – сообщил он, вытирая ладонью нос, – скажите на милость, чего вы боитесь? Ну какое все это имеет значение? Смешно! Вроде тех ребячьих забав, – Ольга с мальчиком разыгрывали какие-то дурацкие сценки – она утонула, а он потерял то ли жизнь, то ли еще что в железнодорожном крушении. Господи, да какое значение все это имеет?
– Ладно, если все это не имеет значения, – тяжко дыша, произнес Руфель, – тогда скажите им, черт подери, что вы рады стараться, и сделайте все, что они хотят, и нас не застрелят.
– Жуткое, понимаешь, положение, – сказал Шимпффер, бывший когда-то обыкновенным храбрым рыжим мальчишкой, но приобретший теперь бледную одутловатую физиономию с веснушками под редкими волосами. – Нам объяснили, что если ты не примешь условий правительства, значит, сегодня – наш последний день. У меня в Аст-Лагоде большая фабрика спортивных товаров. Меня взяли среди ночи и запихали в тюрьму. Я законопослушный гражданин, мне вообще непонятно, как это можно отвергать правительственные предложения, но я понимаю, ты человек исключительный, ты можешь иметь исключительные причины, и ты мне поверь, мне было бы страх как неловко, если бы я вдруг заставил тебя сделать что-то нечестное или глупое.
– Круг, вы слышите, что мы вам говорим? – резко спросил Руфель, и, так как Круг продолжал смотреть на них с благосклонной улыбкой на слегка обвислых губах, они с ужасом поняли, что обращаются к умалишенному.
– Khoroshen’koe polozhen’itze [милое дело], – сказал Руфель остолбеневшему Шимпфферу.
Цветное фото, снятое минуты две погодя, показало следующее: справа (если стать лицом к выходу) около серой стены, в кресле, только что вынесенном для него из дома, сидел, раздвинув ляжки, Падук. На нем была пятнистая (зеленая с коричневым) форма одного из любимых его полков. Лицо его под водозащитной фуражкой (изобретенной когда-то его отцом) было как тускло-розовое пятно. Он щеголял бутылочной формы коричневыми крагами. Шамм, величественная особа в медном нагруднике и широкополой черного бархата шляпе с белым пером, склонялся к надутому малютке-диктатору, что-то ему рассказывая. Трое других Старейшин стояли вблизи, обернутые в черные плащи, как кипарисы, как террористы. Несколько ладных молодых людей в опереточной форме, вооруженных пятнистыми (коричневыми с зеленым) автоматическими пистолетами, защитным полукругом обступали эту группу. На стене позади Падука, как раз над его головой, уцелела надпись мелом, непечатное слово, нацарапанное каким-то школьником; этот серьезный недосмотр совершенно испортил правую часть картинки. Слева, посреди двора, без шляпы, с жесткими и темными поседевшими кудрями, шевелившимися на ветру, в просторной белой пижаме с шелковым поясом, босиком, словно древний святой, маячил Круг. Стража нацелила ружья на Руфеля с Шимпффером, которые пытались ей что-то внушить. Ольгина сестра с судорогой на лице и старательной беспечностью во взоре втолковывала своему бестолковому муженьку, чтобы он сделал два шага вперед и занял местечко получше, тогда они смогут следующими добраться до Круга. На заднем плане медицинская сестра делала укол Максимову: старик завалился, и жена его, встав на колени, обертывала ему ноги своей черной шалью (с обоими очень дурно обращались в тюрьме). Хедрон, или, вернее, очень одаренный имперсонатор (сам Хедрон вот уже несколько дней как покончил с собой), покуривал данхилловскую трубку. Эмбер, дрожащий (очертания смазались), несмотря на каракулевое пальто, воспользовался препирательствами между охраной и первой двойкой и подобрался почти уже к самому Кругу. Можете двигаться.
Руфель всплеснул руками. Эмбер поймал Круга за локоть, и Круг проворно обернулся к другу.
– Обожди минуту, – сказал Круг. – Не начинай жаловаться, покамест я не улажу это недоразумение. Потому что, видишь ли, вся эта «очная ставка» – сплошное недоразумение. Мне нынче ночью приснился сон, да, сон… А, все равно, называть ли его сном или презренным обманом зрения, – знаешь, из этих косых лучей в келье отшельника – ты посмотри на мои босые ноги – холодные, как мрамор, конечно – однако… О чем бишь я? Послушай, ты не такой болван, как остальные, верно? Ты ведь не хуже меня понимаешь, что бояться тут нечего?
– Адам, милый, – сказал Эмбер, – не будем входить в такие мелочи, как страх. Я готов умереть… Однако есть одна вещь, которой я дольше терпеть не намерен, c’est la tragédie des cabinets, она меня убивает. Ты знаешь, у меня на редкость капризный желудок, а они выводят меня на какой-то сальный сквозняк, в инфернальную грязь, один раз в день на одну минуту. C’est atroce. Я предпочитаю расстрел на месте.
Поскольку Руфель и Шимпффер продолжали упорствовать и уверяли стражников, что они не закончили разговора с Кругом, один из солдат воззвал к Старейшинам, и подошел Шамм, и мягко заговорил.
– Так не годится, – сказал он с очень четкой дикцией (единственно силой воли он излечил себя в молодости от взрывчатого заикания). – Программу надлежит выполнять без болтовни и сумятицы. Давайте прекращайте. Сообщите же им (он повернулся к Кругу), что вас избрали министром образования и юстиции и что в этом качестве вы возвращаете им их жизни.
– У тебя фантастически прекрасный нагрудник, – промурлыкал Круг и, быстро двигая всеми десятью пальцами, забарабанил по выпуклой железяке.
– Дни наших щенячьих игр на этом дворе давно миновали, – строго заметил Шамм.
Круг потянулся к шлему Шамма и расторопно переместил его на свои локоны.
Это была котиковая девчоночья шапка. Мальчишка, заикаясь от гнева, попытался ее отнять. Адам Круг швырнул ее Пинки Шимпфферу, а тот в свой черед закинул ее на опушенную снегом поленницу березовых дров, там она и застряла. Шамм помчался обратно в школу, ябедничать. Жаба, уходивший домой, крался к выходу вдоль низкой стены. Адам Круг закинул ранец с книгами за плечо и поделился с Шимпффером – занятно, у Шимпффера тоже возникает иногда это чувство «повторяющейся последовательности», как будто все уже было прежде: меховая шапка, я кидаю ее тебе, ты подкинул ее кверху, поленья, снег, шапка застряла, выходит Жаба?.. Шимпффер, наделенный практическим складом ума, предложил: а не пугнуть ли им Жабу как следует? Из-за поленницы мальчишки следили за ним. Жаба остановился у стены, видимо, поджидая Мамша. Круг с громовым «ура!» возглавил атаку.
– Ради бога, остановите его, – закричал Руфель, – он обезумел. Мы за него не отвечаем. Остановите его!
Мощно набирая скорость, Круг несся к стене, у которой Падук с тающими в водах страха чертами, выскользнув из кресла, пытался исчезнуть. Двор забурлил в исступленном смятенье. Круг увернулся от объятий охранника. Потом левая часть его головы, казалось, взорвалась языками пламени (это первая пуля оторвала кусок уха), но он весело ковылял дальше.
– Давай, Шримп, давай, – ревел он, не оборачиваясь, – круши от души, корежь ему рожу, давай!
Он видел Жабу, скорчившегося у подножья стены, трясущегося, расплывающегося, все быстрее вывизгивающего заклинания, заслонявшего полупрозрачной рукой тускнеющее лицо, и Круг несся к нему, и как раз за долю мгновения до того, как другая и более точная пуля ударила в него, он снова выкрикнул: «Ты, ты…» – и стена исчезла, как резко выдернутый слайд, и я потянулся и встал среди хаоса исписанных и переписанных страниц, чтобы исследовать внезапное «трень!», произведенное чем-то, ударившимся о проволочную сетку моего окна.
Как я и думал, крупная бабочка цеплялась за сетку мохнатыми лапками со стороны ночи; мраморные крылья ее дрожали, глаза сверкали, как два крохотных уголька. Я только заметил коричнево-розовое обтекаемое тельце и сдвоенные цветные пятна, как бражник отцепился и отмахнул в теплую, влажную темень.
Ну что ж, вот и все. Различные части моего сравнительного рая – лампа у изголовья, таблетки снотворного, стакан с молоком – смотрели мне в глаза с совершенным повиновением. Я понимал, что бессмертие, дарованное мной бедолаге, было лишь скользким софизмом, игрой в слова. И все же самый последний бег в его жизни был полон счастья, и он получил доказательства того, что смерть – это всего лишь вопрос стиля. Некие башенные часы, которых я ни разу не смог обнаружить, которых, собственно, я никогда и не слышал в дневное время, пробили дважды, поколебались и были оставлены позади ровной поспешающей тишью, продолжавшей струиться по венам моих ноющих висков; вопрос ритма.
Два окна еще светились через лужайку. В одном тень руки расчесывала невидимые волосы или, быть может, это двигались ветви; другое черной чертой пересекал наклонный ствол тополя. Разрезанный луч уличного фонаря высветил ярко-зеленый кусок мокрой самшитовой изгороди. Я также мог различить отблеск особенной лужи (той самой, которую Круг как-то сумел воспринять сквозь наслоения собственной жизни), продолговатой лужи, неизменно приобретающей те же самые очертания после любого дождя – из-за постоянства формы как бы лопатой оставленной вмятины в почве. Может быть, мы могли бы сказать, что нечто похожее происходит и с отпечатком, который мы оставляем в тонкой ткани пространства. Брень! Добрая ночь, чтобы бражничать.