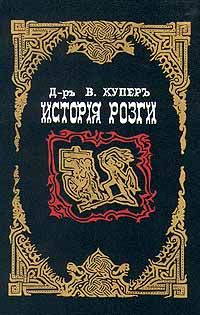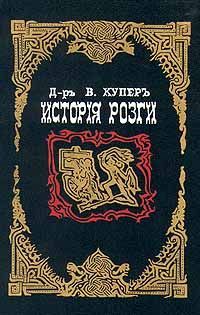Ромен Роллан - Жан-Кристоф (том 2)
Все трое уже стали наилучшими друзьями, как вдруг Шульц допустил невольный промах: он стал восхищаться Брамсом. Это вызвало у Кристофа приступ холодного гнева: он выпустил руку Шульца и резко сказал, что тот, кто любит Брамса, ему не друг. Старики съежились, как от холодного душа. Шульц, слишком застенчивый, чтобы спорить, слишком правдивый, чтобы лгать, хотел объясниться и невнятно забормотал что-то. Но Кристоф прервал его решительным возгласом:
- Довольно!
Наступило гробовое молчание. Прогулка продолжалась. Старики не смели взглянуть друг на друга. Кунц, кашлянув, попытался возобновить беседу, он заговорил о красоте леса, о хорошей погоде, но ему не удавалось втянуть в разговор Кристофа, а тот все еще дулся и отвечал односложно. Кунц, не встретив отклика с этой стороны, попытался - лишь бы только нарушить молчание - заговорить с Шульцем; но у Шульца перехватило дыхание, и он не в состоянии был вымолвить ни слова. Кристоф, искоса поглядывавший на него, чуть не расхохотался, - он уже отошел. Да он и не сердился всерьез - даже упрекал себя за то, что по-свински огорчил бедного Шульца, но, чувствуя свою власть, не пожелал отступиться от высказанного мнения. Так они и шли молча до опушки леса, - в тишине раздавались лишь шаркающие шаги двух смущенных стариков; Кристоф что-то насвистывал и, казалось, забыл о них. Но выдержки его хватило ненадолго. Рассмеявшись, он обернулся к Шульцу и схватил его за плечи своими сильными руками.
- Милый мой, дорогой Шульц! - воскликнул он, нежно глядя на него. - Как это прекрасно! Как это прекрасно!..
Он подразумевал красоту этих мест, счастливо проведенный день, но его смеющиеся глаза говорили: "Ты - хороший. А я - скотина. Прости меня! Я очень тебя люблю".
Старик Шульц растаял от блаженства, как будто из-за туч вновь выглянуло солнце. Прошло несколько минут, пока он обрел дар речи. Кристоф снова взял его под руку и стал разговаривать с ним как можно ласковее, - в порыве увлечения он еще прибавил шагу, не замечая, что спутник его еле дышит. Шульц не жаловался: от радости он не замечал утомления. Он знал, что за все безумства этого дня придется расплачиваться. Но он думал:
"Ну и пусть! Это будет завтра. _Он_ уедет, и я отдохну".
А Кунц, натура менее восторженная, отстал от них, и вид у него был довольно жалкий. Кристоф наконец заметил это. Он сконфузился, стал извиняться и предложил полежать на лужайке, под тополями. Конечно, Шульц сейчас же согласился, махнув рукой на бронхит. К счастью, Кунц был не так забывчив, а, может быть, тревога за Шульца была для него только предлогом, чтобы позаботиться о себе; он был весь мокрый после прогулки и боялся лежать на росистой траве. Он предложил сесть на ближайшей станции в поезд и вернуться в город. Так и сделали. Как ни устали старики, пришлось поторапливаться, чтобы поспеть вовремя; они явились на вокзал как раз к приходу поезда.
При их появлении какой-то толстяк стремительно высунулся из окна вагона и выкрикнул имена Шульца и Кунца, присовокупив к ним полный перечень их званий и чинов; при этом он, как сумасшедший, размахивал руками. Шульц и Кунц тоже завопили и замахали руками; они бросились в вагон, но толстяк уже устремился им навстречу, расталкивая публику. Оторопевший Кристоф ринулся вслед за ними, допытываясь на ходу:
- Что случилось?
Старики, ликуя, ответили:
- Это Поттпетшмидт!
Фамилия мало что говорила Кристофу. Тосты, провозглашенные за обедом, вылетели у него из головы. Поттпетшмидт на площадке вагона, Шульц и Кунц на подножке подняли оглушительный шум: они не могли надивиться своей удаче. Когда расселись в купе, Шульц представил гостя. Поттпетшмидт, мгновенно придав своему лицу торжественно-окаменелое выражение, вытянувшись, как столб, отвесил поклон; проделав эту церемонию, он схватил Кристофа за руку, раз шесть тряхнул ее с такой силой, как будто хотел оторвать, и опять завопил. Кристоф с трудом понял, что его новый знакомый благодарит бога и свою счастливую звезду за эту необычайную встречу. Впрочем, Поттпетшмидт тут же, без всякого перехода, ударил себя по бедрам и проклял свою злосчастную судьбу, удалившую его из города, - это его-то, который вообще никогда не отлучается, - и когда же? - в день прибытия господина капельмейстера. Телеграмму Шульца ему вручили только утром, через час после отхода поезда. Когда ее принесли, он еще спал, и его не решились разбудить. За это он все утро разносил служащих гостиницы, да и сейчас еще весь кипел от негодования. И вот он послал к черту своих больных, свои деловые встречи и выехал первым поездом - так он спешил вернуться; но этот поезд, дьявол его побери, прибыл с опозданием на главную линию, где была пересадка, и Поттпетшмидту пришлось ждать три часа на какой-то станции; он исчерпал весь запас проклятий, какие только были в его словаре, и раз двадцать успел поведать о своих злоключениях пассажирам и станционному сторожу. Наконец он тронулся в путь. Он дрожал от страха при мысли, что явится слишком поздно... Но слава богу! Слава богу!
Поттпетшмидт снова взял Кристофа за руки и чуть не раздавил их в своих больших волосатых лапах. Он поражал непомерной толщиной и массивностью: у него была квадратная голова, рыжие, коротко остриженные волосы, бритое, в рябинах, лицо, большие глаза, большой нос, большой рот, двойной подбородок, короткая шея, необъятной ширины спина, круглое, как бочка, брюхо, растопыренные руки, огромные кисти, ступни. Словом, это была гигантская туша, неумеренно поглощавшая яства и пиво, не человек, а котел с приделанной к нему человеческой физиономией, - такого субъекта не встретишь нигде, кроме как на улицах баварских городов, хранящих секрет откорма этой породы людей, подобно тому как существует способ откармливания индеек. От радости и от зноя он лоснился, точно брусок масла; он сидел, широко расставив ноги и держа руки у себя на коленях или на коленях собеседника, и без устали говорил, выбрасывая слова с силой катапульты. Время от времени он разражался смехом, сотрясавшим все его тело: запрокидывал голову, разверзал рот, хрипел, пыхтел и задыхался. Своей веселостью он заражал Шульца и Кунца. Когда приступ кончался, они взглядывали на Кристофа, вытирая глаза. Казалось, они спрашивали его:
"Ну?.. Что скажете? Хорош?"
Кристоф не говорил ничего; он с ужасом думал:
"И это чудище поет мои вещи?"
Вернулись к Шульцу. Кристоф пропускал мимо ушей намеки Поттпетшмидта, горевшего желанием петь: он надеялся, что сия чаша минует его. Но Шульцу и Кунцу не терпелось похвастать своим другом - пришлось идти на заклание. Кристоф сел за рояль довольно неохотно, он думал:
"Ах, дружок, если бы ты знал, что тебя ждет: берегись! И не надейся на пощаду".
Кристоф знал, что расстроит Шульца, и это было ему тяжело; тем не менее он твердо решил не допускать, чтобы сэр Джон Фальстаф коверкал его песни. Но Кристофу не пришлось огорчать своего старого друга: у толстяка оказался замечательный голос. После первых же тактов у Кристофа вырвался жест удивления. Шульц, пристально следивший за ним, задрожал: ему показалось, что Кристоф недоволен, и успокоился он, лишь когда увидел, что лицо юноши светлеет с каждой минутой. И сам он засветился отблеском его радости, когда пьеса была окончена и Кристоф, обернувшись, воскликнул, что никто еще так хорошо не исполнял его Lieder. Шульц не скрыл сладостного восторга, несравнимого не только с удовольствием, полученным остальными слушателями, но даже с торжеством исполнителя, - ведь каждый из них радовался за себя, а Шульц еще и за обоих своих друзей. Концерт продолжался. Кристоф был вне себя от удивления: как этот заурядный провинциал, неповоротливый тюлень ухитряется так верно передавать его Lieder? Конечно, не все оттенки были воспроизведены точно, но хорошо был передан порыв, страсть, все то, чему Кристоф никогда не мог научить профессиональных певцов. Он смотрел на Поттпетшмидта и спрашивал себя:
"Неужели он в самом деле почувствовал это?"
Но в глазах певца он видел лишь огонь удовлетворенного тщеславия. Какая-то бессознательная сила жила в этой тяжеловесной громаде. Сила слепая и покорная, напоминавшая войско, которое дерется, не зная, против кого и за что. Дух Lieder Кристофа завладевал им, и оно радостно повиновалось: рвалось к действию, но, предоставленное самому себе, не знало бы, как действовать.
Кристоф подумал, что в дни сотворения мира великий ваятель не очень-то утруждал себя, составляя из разрозненных частей намеченные им вчерне создания, и что подбирал он эти части наспех, не беспокоясь о том, подойдут ли они одна к другой, составят ли единое целое. Каждый оказался слепленным из самых разнообразных кусков, один человек был рассеян в пяти-шести различных людях: мозг - у одного, сердце - у другого, тело, которое гармонировало бы с этой душой, - у третьего; инструмент оказывался в одних руках, а мастер вовсе без инструмента. Некоторые - как чудесные скрипки, обреченные годами лежать в футляре, за отсутствием музыканта. А истинным музыкантам приходится всю жизнь довольствоваться жалкими деревяшками. Кристофу ли было не знать этого? Сколько раз он, взбешенный, отходил от рояля, не будучи в состоянии правильно спеть страницы из своих произведений! Он пел фальшиво и не мог без ужаса слушать себя.