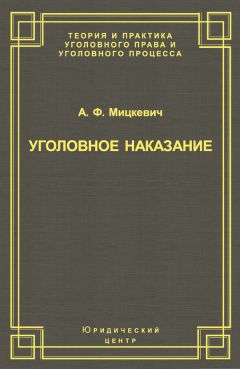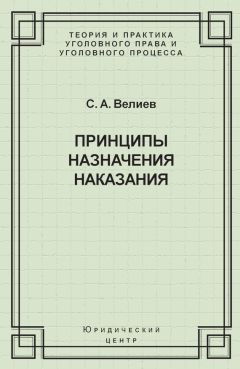Роберт Вальзер - Семейство Таннер
— Почему бы нет? Охотно! — И Симон, сам не зная почему, покраснел.
— Ты с первого взгляда очень мне понравился, — сказал санитар, который назвался Генрихом, — достаточно посмотреть на тебя — и сразу веришь, что ты хороший малый. Впору тебя расцеловать, Симон.
Симону вдруг стало душно в этой комнате. Он встал со стула. Догадывался уже, что за человек тот, кто так нежно на него смотрит. Но ведь от него не убудет. «Ладно, пусть, — подумал он. — В остальном Генрих очень милый, нельзя же из-за этого отвечать ему грубостью!» И он подставил губы, на которых тот запечатлел поцелуй.
Подумаешь, какой пустяк!
Кстати, нежное обращение ему понравилось и показалось вполне под стать состоянию размягченности, в коем он пребывал. Хотя бы и со стороны мужчины на сей раз! Он отчетливо чувствовал, что странная симпатия этого человека к нему нуждалась в деликатной и покуда не протестующей осмотрительности, и он просто не мог разрушить надежды этого человека, пусть даже и недостойные. Надо ли из-за этого выказывать возмущение? «Ни в коем случае, — думал Симон, — до поры до времени предоставлю ему свободу действий, так будет сейчас лучше всего!»
Вечер они провели, переходя из трактира в трактир; санитар весьма любил выпить, потому что особо не знал, чем еще занять свободное время. Симон почел за благо во всем участвовать. В маленьких, душных заведеньицах он знакомился с людьми, которые с невероятным упорством резались в карты. В карточной игре они, казалось, видели свой собственный мир, куда посторонним соваться незачем. Были там и такие, что целый вечер сидели за столом, зажав в зубах длинные сигары и перекатывая их из одного угла рта в другой, но более ничем не привлекали к себе внимания, разве только когда окурок становился так мал, что уже не держался в зубах, — тогда они накалывали его на острие перочинного ножа, чтобы докурить до возможно малых размеров. Изможденная беспутная пианистка рассказала ему, что ее сестра — скверная родственница, зато знаменитая концертная певица, правда, они давно уже прекратили близкое общение. Симон счел это понятным, но держался кротко и ничего ей не сказал. Женщина показалась ему скорее несчастной, нежели испорченной, а несчастье всегда вызывало у него уважение, испорченность же он полагал следствием несчастья, каковое по меньшей мере требовало порядочности. Он видел толстых, низеньких, до ужаса деятельных трактирщиц, которые обнаруживали в общении с посетителями большую предупредительность, меж тем как их мужья спали на диванах или в мягких креслах. Нет-нет раздавалась добрая старая народная песня, и пел ее сущий мастер по части старинных песен — и в тональности, и в переливах голоса. Звучали эти песни красиво и печально, всяк невольно угадывал, что некогда, давным-давно, их уже распевали иные хриплые и звонкие голоса. Один без конца рассказывал анекдоты, невысокий парень в большой широкополой шляпе с высокой тульей, купленной, поди, у старьевщика. Рот у него был сальный, и анекдоты такие же, однако они хочешь не хочешь вызывали смех. Кто-то сказал ему: «Восхищаюсь вашим остроумием!», но острослов с хорошо разыгранным удивлением отмел нелепый восторг, и вот это поистине свидетельствовало об уме, какому бы порадовался любой образованный человек. Санитар сообщал каждому, кто садился с ним рядом, что, по сути, слишком плох, но, если вдуматься, слишком хорош для своей родины. Симон думал: «Как глупо!» Зато о Неаполе Генрих рассказал куда лучше, поведал, например, что в тамошних музеях можно увидеть диковинные останки древних людей, судя по которым, давние люди превосходили нынешних и ростом, и шириною, и дородностью. Руки у них не уступали нашим ляжкам! Вот было племя! Что мы в сравнении с ним? Обессилевшее поколение, убогое, захиревшее, циничное, долговязое, истонченное, изорванное, искромсанное и захудалое. И Неаполитанский залив он сумел описать в изящных словах. Многие внимательно его слушали, но многие спали и во сне слышать ничего не могли.
Домой Симон воротился очень поздно, входная дверь оказалась заперта, ключа у него не было, и он весьма решительно позвонил в дверной колокольчик, так как находился в том состоянии, когда человек, как правило, действует бесцеремонно. На громкий трезвон немедля отворилось окно, и белая фигура — без сомнения, хозяйка в ночной кофте — сбросила ему завернутый в толстую бумагу ключ.
Наутро она, вовсе не гневаясь, с приветливейшей улыбкой сказала «доброе утро» и ни словом не обмолвилась о ночном шуме. Симон поэтому тоже счел неуместным упоминать означенный инцидент и оправдываться не стал — частью из деликатности, частью от лени.
Выйдя из дому, он отправился к санитару. Утро понедельника опять выдалось чудесное. Горожане уже занимались делами, а потому улицы были пустынны и светлы; он поднялся в комнату, где заспанный санитар еще лежал в постели. Нынче Симон заметил на стенах то, чего вчера не видел: множество весьма слащавых христианских украшений — вырезанных из бумаги розовых ангелочков да таблички с изречениями в рамках из загадочных засушенных цветов. Он прочел все изречения, среди которых были глубокомысленные, побуждавшие к раздумьям, стародавние, пожалуй что постарше восьмерых стариков, вместе взятых, были и выглаженные новые изречения, читавшиеся так, будто их тысячами штамповали на фабрике. «Как странно! — думал он. — Повсюду, во многих комнатах и комнатенках, куда бы ни пришел и каким бы делом ни занимался, видишь на стенах этакие свидетельства былой религиозности, отчасти много чего говорящие, отчасти мало, а то и вовсе ничего. Во что верит санитар? Наверняка ни во что! Пожалуй, для многих нынешних людей религия всего-навсего незначительное, поверхностное и неосознанное дело вкуса, вроде любопытства и привычки, по крайней мере для мужчин. Возможно, одна из сестер санитара украсила эту комнату таким манером. Думаю, да, ведь у девушек есть более глубокая причина для набожности и религиозных раздумий, нежели у мужчин, чья жизнь всегда, с незапамятных времен, спорила с религией, коль скоро они не были монахами. Однако убеленный сединами протестантский пастор с кроткой терпеливой улыбкой и благородной походкой, когда шагает по уединенным лесным прогалинам, неизменно являет собою прекрасное зрелище. В городе религия не так красива, как в деревне, где живут крестьяне, самому образу жизни которых уже присуще нечто глубоко религиозное. В городе религия похожа на машину, а в машине никакой красоты нет, в деревне, однако, вера в Бога пробуждает те же чувства, что и цветущее хлебное поле, или просторный пышный луг, или восхитительные волны отлогих холмов, где на вершине прячется уединенный дом с тихими обитателями, коим раздумье — близкий друг. Не знаю, мне кажется, в городе приходский священник чересчур близко соседствует с биржевым спекулянтом и с безбожным художником. В городе вере в Бога недостает надлежащего отдаления. Для религии здесь слишком мало неба и слишком мало аромата земли. Мне трудно подобрать слова, да, собственно, какая разница. Мой опыт говорит, что религия — это любовь к жизни, сердечная привязанность к земле, радость минуты, доверие к красоте, вера в людей, беззаботность на дружеской пирушке, удовольствие от размышлений и мечтаний и кротость в невзгодах, улыбка перед лицом смерти и мужество в любом предприятии, какое предлагает жизнь. В конечном счете нашей религией стала глубокая человеческая порядочность. Коль скоро люди доброжелательны друг к другу, они и к Богу относятся так же. А Богу, поди, ничего другого и не надобно? Сердце и чуткость могут сообща создать порядочность, которая Богу, поди, куда милее мрачной, фанатичной веры, наверное смущающей Всевышнего, так что Он в конце концов не желает и слушать молитвы, громогласно возносимые к небесам. На что Ему молитва, возносимая столь дерзко да грубо, будто Он туг на ухо? Не следует ли представлять Его себе как обладателя тончайшего слуха, коли вообще можно Его себе представить? Приятны ли Ему проповеди и звуки органа, Ему, Невыразимому? Что ж, Он, наверно, улыбается, глядя на наши по-прежнему сомнительные старания, и надеется, что однажды мы догадаемся поменьше ему докучать».
— Вы что-то очень задумчивы, Симон, — сказал санитар.
— Идемте? — спросил Симон.
Санитар меж тем был полностью готов, и оба не спеша зашагали по крутым улочкам в гору. Солнце жарко припекало. Они вошли в утопающий среди зелени дворик питейного заведения и заказали по кружке винца. А когда хотели уйти, хозяйка, хорошенькая женщина, уговорила их остаться, и они остались до вечера. «Вот так, не успеешь оглянуться, а весь летний день просидел за выпивкой», — подумал Симон со смешанным чувством хмельного довольства и кроткой, прелестной, мелодичной печали. Вечерние краски средь зелени дурманили ему голову. Приятель пристально и требовательно посмотрел ему в глаза, обнял его за шею. «По правде говоря, это противно», — подумал Симон. По дороге они оба в весьма вызывающей манере заговаривали со всеми женщинами и девушками. Рабочие возвращались домой с работы, шагали еще бодро, как-то странно поводя плечами, словно могли теперь облегченно вздохнуть. Симон высмотрел среди них замечательные фигуры. Когда они добрались до жаркого, уже сумеречного леса, венчавшего гору, внизу, в далеком мире, заходило солнце. Оба устроились средь зеленых кустов и просто молча дышали. Затем, как Симон и ожидал, товарищ приблизился к нему, отчего он аж похолодел.