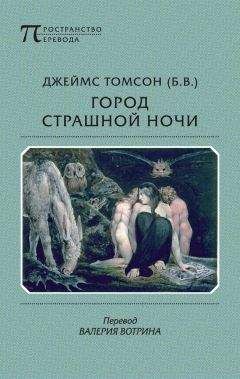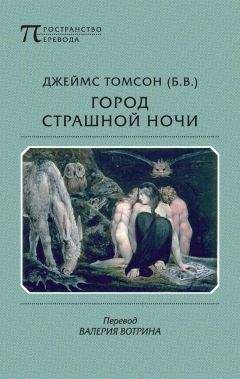Генрих Белль - Глазами клоуна
Только около пяти утра я проводил Генриха домой; пока мы шли по Эренфельду, он на каждом шагу показывал на подъезды, бормоча: "Здесь живут мои овечки, здесь живут мои овечки..." Сварливая экономка Генриха с желтыми икрами злобно воскликнула: "Это еще что такое?" Я пошел домой и украдкой от хозяйки постирал в ванной простыню в холодной воде.
Эренфельд... платформы с бурым углем... веревки, на которых сохло белье, запрет пользоваться ванной, свист пакетиков с объедками, пролетавших иногда ночью мимо наших окон, подобно неразорвавшимся снарядам... глухой шлепок о землю, и снаряд уже замолкал, разве что из него выпадала яичная скорлупа и с тихим шелестом катилась прочь.
У Генриха опять вышли из-за нас неприятности со священником, так как он хотел ссудить нас деньгами из церковного благотворительного фонда; я снова отправился к Эдгару Винекену, а Лео прислал нам свои карманные часы, чтобы мы их заложили; Эдгар раздобыл немного денег в кассе социального страхования рабочих; таким образом мы смогли хотя бы рассчитаться за лекарства, взять такси и наполовину расплатиться с врачом.
Я вспоминал Марию, монахиню, перебиравшую четки, слово "грань", бродячую собаку, предвыборные плакаты, кладбище автомобилей... и то, какие у меня были холодные руки, когда я стирал простыню... и все же я не мог поручиться, что все это происходило на самом деле. Я не стал бы также ручаться, что старик из духовной семинарии Лео действительно рассказал мне, будто он звонит в берлинское бюро погоды, чтобы нанести материальный ущерб католической церкви, а ведь я слышал это собственными ушами, слышал, как он в это время глотал и чавкал, уплетая сладкий пудинг.
19
Недолго думая и еще не зная, что я скажу, я набрал телефон Моники Зильвс. Не успел звонок прозвонить, как она уже подняла трубку:
- Алло.
Мне было приятно услышать ее голос. Голос у Моники сильный и умный.
- Говорит Ганс, - сказал я, - я хотел...
Но она вдруг прервала меня:
- Ах, это вы... - в ее тоне не было ничего обидного или неприятного, но я явственно понял, что она ждала другого звонка, не моего. Может быть, ей должна была позвонить приятельница или мать... и все же мне стало обидно.
- Я хотел только поблагодарить вас, - сказал я. - Вы такая милая.
В квартире до сих пор пахло ее духами, "Тайгой" - так, кажется, они называются. Для нее они были слишком крепкими.
- Меня все это так огорчает, - сказала она, - вам, наверное, тяжело. Я не знал, что именно она имеет в виду: пасквиль Костерта, который, очевидно, прочел весь Бонн, или венчание Марии, или и то и другое.
- Нельзя ли вам чем-нибудь помочь? - спросила она вполголоса.
- Да, - ответил я, - приходите и сжальтесь надо мной и над моим коленом тоже - оно довольно-таки сильно распухло.
Моника промолчала. А я-то ждал, что, она тотчас скажет: "Хорошо!" - и мне даже стало жутко при мысли, что она и впрямь последует моему зову. Но она сказала:
- Сегодня не могу, ко мне должны прийти.
Она могла бы объяснить, кого она ждет, или по крайней мере сказать: Ко мне зайдет приятельница или приятель. После ее слов "ко мне должны прийти" я почувствовал себя совсем скверно.
- Ну, тогда отложим на завтра, мне придется, наверное, пролежать недельку, не меньше.
- А можно мне пока помочь вам как-нибудь иначе, я хочу сказать, нельзя ли что-нибудь сделать для вас по телефону? - Она произнесла это так, что во мне проснулась надежда - быть может, все же она ждет просто приятельницу.
- Да, - сказал я, - сыграйте мне мазурку Шопена, Си бемоль мажор, опус седьмой.
- Странные у вас фантазии. - Она рассмеялась; при звуках ее голоса моя приверженность к моногамии впервые пошатнулась. - Я не очень люблю Шопена, - продолжала она, - и плохо его играю.
- О боже, - возразил я, - какая разница! А ноты у вас есть?
- Должны где-то быть, - ответила она, - подождите секундочку.
Она положила трубку на стол, и я услышал, как она ходит по комнате. Я ждал несколько минут, пока она снова взяла трубку, и за это время успел вспомнить, как Мария рассказала мне, что даже у некоторых святых были подруги. Разумеется, их связывала чисто духовная дружба, но все духовное, что женщина дает мужчине, у них, значит, было. А меня лишили и этого.
Моника снова взяла трубку.
- Вот, - сказала она со вздохом, - вот мазурки.
- Пожалуйста, - попросил я опять, - сыграйте мне мазурку, Си бемоль мажор, опус седьмой, номер один.
- Я уже сто лет не играла Шопена, надо бы немного поупражняться.
- А, может, вам не хочется, чтобы ваш таинственный гость услышал, что вы играете Шопена?
- О, - сказала она со смехом, - пусть себе слушает на здоровье.
- Зоммервильд? - спросил я одними губами, услышал ее удивленный возглас и продолжал: - Если это действительно он, стукните его по голове крышкой рояля.
- Этого он не заслужил, - возразила она, - он вас очень любит.
- Знаю, - сказал я, - и даже верю ему, но я хотел бы набраться мужества и прикончить его.
- Я немного порепетирую и сыграю вам мазурку, - сказала она поспешно. Я вам позвоню.
- Хорошо, - ответил я, но мы оба не сразу положили трубку. Я слышал дыхание Моники, не знаю, сколько времени, но я слышал его, потом она положила трубку. А я еще долго не опускал бы трубку, только чтобы слышать ее дыхание. Боже мой, дыхание женщины, хотя бы это.
Фасоль камнем лежала у меня в желудке, и это усугубляло мою меланхолию; тем не менее я отправился на кухню, открыл вторую банку, вывалил фасоль в ту же кастрюлю, в какой грел раньше, и зажег газ. Кофейную гущу в фильтровальной бумаге я выкинул в помойное ведро, взял чистую бумагу, всыпал в нее четыре ложки кофе и поставил кипятить воду, а после попытался навести в кухне порядок. Подтер тряпкой пролитый кофе, выбросил пустые консервные банки и скорлупки от яиц в ведро. Ненавижу неубранные комнаты, но сам я не в состоянии убирать. Я пошел в столовую, взял грязные рюмки и отнес их в раковину на кухню. Теперь в квартире все было в порядке и все же она выглядела неприбранной. Мария умела непостижимо быстро и ловко придавать каждой комнате прибранный вид, хотя ничего осязаемого, ничего явного она не совершала. Как видно, весь секрет в ее руках. Я вспомнил руки Марии - уже самая мысль, что она положит руки на плечи Цюпфнеру, превращала мою меланхолию в отчаяние. Руки каждой женщины могут так много сказать - и правду и неправду; по сравнению с ними мужские руки представляются мне просто кое-как приклеенными чурками. Мужские руки годны для рукопожатии и для рукоприкладства, ну и, конечно, они умеют опускать курок и подписывать чеки. Рукопожатия, рукоприкладство, стрельба и подписи на чеках - вот все, на что способны мужские руки, если не считать работы. Зато женские руки, пожалуй, уже нечто большее, чем просто руки, даже тогда, когда они мажут масло на хлеб или убирают со лба прядь волос. Ни один церковник не додумался прочесть проповедь о женских руках в Евангелии: о руках Вероники и Магдалины, Марии и Марфы, хотя в Евангелии так много женских рук, ласковых рук, помогавших Христу. Вместо этого они читают проповеди о незыблемых законах и принципах, об искусстве и государстве. А ведь в частном порядке, если можно так выразиться, Христос общался почти исключительно с женщинами. Без мужчин он, конечно, не мог обойтись; ведь такие, как Калик, - приверженцы всякой власти, они разбираются в организациях и прочей ерунде. Христос нуждался в мужчинах так же, как человек, задумавший переехать на новую квартиру, нуждается в упаковщиках; мужчины были ему необходимы для черной работы; впрочем, Петр и Иоанн были не по-мужски мягкими, зато Павел являлся воплощением мужества, как и подобало настоящему римлянину. Дома нас во всех случаях жизни пичкали Библией, поскольку среди нашей родни полным-полно пасторов, но нам ни разу не рассказали о женщинах в Евангелии или о чем-нибудь столь непостижимом, как притча о неправедном Маммоне. В католическом кружке тоже не упоминали о неправедном Маммоне; когда я заводил об этом речь, Кинкель и Зоммервильд смущенно улыбались, словно они поймали Христа на какой-то досадной оплошности, а Фредебейль утверждал, что в ходе истории выражение это совершенно стерлось. Его, видите ли, не устраивала "иррациональность" этого выражения. Можно подумать, что деньги - что-то рациональное. В руках Марии даже деньги теряли свою сомнительность: у нее была прекрасная черта - она умела обходиться с деньгами небрежно и в то же время очень бережливо. Поскольку я совершенно не признавал ни чеков, ни любых других способов "безналичных расчетов", мне вручали гонорар звонкой монетой прямо на месте, поэтому нам никогда не приходилось определять наш бюджет больше чем на два, в крайнем случае на три дня вперед. Мария ссужала деньгами почти всех, кто к ней обращался, а иногда и тех, кто не думал обращаться: ей достаточно было выяснить в разговоре, что человек нуждается в деньгах.
Так, она заплатила за зимнее пальто сынишки официанта в Геттингене, узнав, что мальчику пора поступать в школу; частенько она доплачивала за билет и плацкарту беспомощным старушкам, которые ехали на похороны и, как на грех, попадали в мягкие вагоны. Я и не знал, как много старушек разъезжает по железной дороге, чтобы присутствовать на погребении своих чад, внуков, невесток и зятьев, и что иногда эти старушки - не все, разумеется, - кокетничая своей старушечьей беспомощностью, забираются со всеми своими тяжелыми чемоданами и сумками, набитыми копченой колбасой, шпигом и сдобными пирогами, в мягкое купе. В этих случаях я, по настоянию Марии, укладывал тяжелые чемоданы и сумки в сетки для багажа, хотя все пассажиры понимали, что у бабуси билет в жестком вагоне. А сама Мария тут же отправлялась к проводнику, чтобы "уладить дело", пока бабусе не разъяснили, что она малость ошиблась. Чтобы доплатить нужную сумму, Мария заранее спрашивала, далеко ли едет старушка, а потом осведомлялась, кого она собирается хоронить. Старушки обычно любезно комментировали действия Марии, говоря: "Нынешняя молодежь вовсе не такая уж плохая, как люди думают", и вручали ей гонорар в виде необъятного размера бутербродов с ветчиной. Особенно много осиротевших бабушек курсирует, как мне казалось, между Дортмундом и Ганновером. Мария всегда стеснялась, что мы едем в мягком, и она огорчилась бы не на шутку, если бы кого-нибудь выгнали из нашего купе только за то, что он не наскреб денег на билет в мягком. С неистощимым терпением она выслушивала пространные описания родственных связей и разглядывала фотографии абсолютно чужих людей. Однажды мы провели целых два часа со старой крестьянкой из Бюкебурга, у которой было двадцать три внука и все нужные фотографии оказались при себе; таким образом, нам довелось выслушать двадцать три жизнеописания и познакомиться с двадцатью тремя фотокарточками молодых мужчин и женщин, которые все без исключения "вышли в люди"; один внук стал инспектором в Мюнстере, внучка замужем за железнодорожным служащим, второй внук заведовал лесопилкой, третий занимал важный пост "в этой самой партии, за которую все голосуют... сами знаете"; о внуке, служившем в бундесвере, старушка сказала, что он сызмальства любил "прочное положение". Для Марии все эти истории представляли захватывающий интерес, она находила их необычайно занимательными и уверяла, что это-то и есть "настоящая жизнь", меня утомляло однообразие этих историй. Между Дортмундом и Ганновером разъезжает слишком много бабусь, чьи внуки стали железнодорожными служащими, а невестки безвременно почили, поскольку "нынешние женщины не хотят рожать... вот в чем беда". Мария умела окружать заботой и вниманием всех стариков, нуждающихся в опеке; она даже помогала им звонить по телефону. Как-то раз я заметил, что ей следовало бы поступить в христианскую миссию при вокзале и она с некоторой обидой отпарировала: