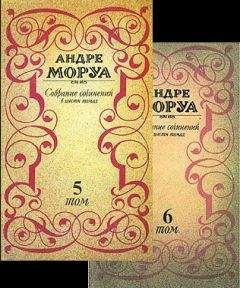Андрэ Моруа - Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго
Виктор Гюго, поглощенный театральными репетициями, совсем не бывал дома. Он писал друзьям: "Вы знаете, что я обременен, подавлен, перегружен, задыхаюсь. Комеди-Франсез, "Эрнани", репетиции, закулисное соперничество, актеры, актрисы, подвохи газет и полиции, а тут еще мои личные дела, по-прежнему весьма запутанные: вопрос с отцовским наследством все еще не улажен... наших песков в Солони уже полтора года никак не могут продать; дома в Блуа мачеха оспаривает у нас... словом, ничего или почти что ничего нельзя собрать из остатков большого состояния, одни только судебные процессы и огорчения. Вот какова моя жизнь. Где уж тут всецело принадлежать своим друзьям, когда и себе-то самому не принадлежишь..."
Действительно, Гюго, который с гордостью выставлял себя образцовым мужем и отцом, больше не принадлежал своей семье. Нужно было, чтоб драма "Эрнани" любой ценой имела успех, так как судебные тяжбы и хлопоты поглотили все сбережения супругов. Адель, у которой кошелек опустел, всей душой предалась этой спасительной битве, сражаясь рядом с мужем. Провал "Эми Робсар" показал им всю опасность театральных козней, и Гюго твердо решил захватить собственными своими войсками зрительный зал Комеди-Франсез в вечер первого представления. А войск у него было достаточно. Каждый начинающий художник питал честолюбивое стремление выступить на защиту самого крупного поэта Франции от рутинеров, проповедников классицизма. "Разве не было естественным противопоставить дряхлости - молодость, лысым черепам - пышные гривы волос, косности - энтузиазм, прошлому - будущее?" У Жерара де Нерваля, на которого возложили вербовку легионов, карманы полны были квадратиками красной бумаги, на которых стоял таинственный гриф: "Hierro". Это был клич альмогаваров: "Hierro despertata!" ("Шпага, пробудись!")
И теперь уж Сент-Бев, являясь ежедневно в три часа дня с визитом к госпоже Гюго, неизменно находил ее в окружении растрепанных юношей, склонявшихся вместе с ней над планом зрительного зала. Женщины чтут полководцев, и Адель увлеклась сражением, тем более что от исхода битвы зависела слава ее супруга и материальное положение семьи. Ей было только двадцать пять лет; понукаемая молодыми энтузиастами, она словно очнулась внезапно от обычной своей задумчивости. Разумеется, молодое воинство приветливо встречало "верного Ахата", соратника и учителя. "А-а, это вы, Сент-Бев, - говорила Адель. - Здравствуйте, садитесь. А мы, видите, в какой горячке..." Сент-Бева приводило в отчаяние, что ему больше не удается побыть с нею наедине, он ревновал ее к этим красивым юношам, у него зарождалось смутное раздражение против Гюго, который так доверчиво рассчитывал, что Сент-Бев расхвалит в газетах его драму, меж тем как в глубине души критик терпеть не мог ее напыщенности. Вместе с тем он чувствовал, что сам-то он не способен создать такой неистовый поток страстей, как в "Эрнани", и считал это унизительным для себя, да, впрочем, ему и не хотелось быть на это способным, и он вообще был против всей этой затеи. Неудивительно, что он ходил унылый, подавленный, видя, как гнездо, в котором он нашел себе приют, стало "таким шумным и полным всякого мусора. Да что ж это такое! Нельзя больше уединиться тут с любимыми людьми! Ах, как это печально, как печально!..".
Раздражение, которое не могло рассеяться в излияниях души, все усиливалось, и наконец терпение Сент-Бева лопнуло. За несколько дней до премьеры он прислал Виктору Гюго невероятно жесткое письмо, в котором извинялся, что не может написать статью об "Эрнани":
"Сказать по правде, тяжело видеть, что у вас творится с некоторых пор, - жизнь ваша навсегда предоставлена во всеобщее распоряжение, ваш досуг утрачен, ненавистников у вас стало вдвое больше, старые и благородные друзья отходят от вас, их заменяют теперь глупцы или безумцы; чело ваше прорезали морщины, его омрачает тень забот, порожденная не только трудами и высокими думами; видя все это, я могу лишь огорчаться, жалеть о прошлом, поклониться вам на прощание и пойти поискать какой-нибудь уголок, где я мог бы спрятаться. Консул Бонапарт мне был гораздо симпатичнее императора Наполеона.
Теперь я не могу и пяти минут отдать мыслям об "Эрнани" - тотчас всякие унылые думы начинают тесниться в моем мозгу. Да и как не думать, что вы вступаете на путь вечной борьбы, что вы утратите в ней целомудрие своей лирики, что всеми вашими поступками станут руководить соображения тактики, что вы должны будете встречаться с грязными людьми, что вам придется пожимать им руку, я говорю все это не для того, чтобы вы сошли с избранного вами пути, - такие умы, как ваш, непоколебимы, да и должны быть непоколебимыми, ибо ясно сознают свое призвание. Я говорю это ради себя самого - хочу объяснить свое молчание, пока его никто еще не истолковал превратно, хочу сказать о своей беспомощности...
Порвите, предайте все забвению. Пусть это письмо не будет для вас еще одной неприятностью среди вполне понятных неприятностей. Мне нужно было написать вам, так как теперь уж невозможно поговорить с вами наедине, в доме вашем как будто был разгром.
Ваш неизменный и грустный, Сент-Бев.
А как же ваша супруга? Та женщина, чье имя должно было бы звучать под звуки лиры лишь в те минуты, когда ваши песни люди слушали бы, преклонив колени; та самая, на которую теперь ежедневно устремлены чужие кощунственные взгляды; та, которая раздает билеты восьми и даже более десяткам молодых людей, вчера еще едва знакомых ей? Чистая, пленительная близость, бесценный дар дружбы, навсегда осквернена в этой толкучке; понятие "преданность" попрано, превыше всего ценится у вас теперь полезность, и нет ничего для вас важнее материальных расчетов!!!"
Эта приписка сделана поперек письма, на полях, и почерк свидетельствует, что писавший был в ярости. Этот взрыв бешенства по поводу "супруги" походил на сцену ревности со стороны оскорбленного любовника, и как не удивиться, что Виктор Гюго вытерпел ее. Он уже не мог сомневаться, какой характер носит чувство Сент-Бева к Адели. Но он всецело отдался борьбе, и всякая ссора со своей группой ослабила бы его силы. Два былых соратника продолжали работать бок о бок. Сент-Бев рассылал от имени "своего страшно занятого друга" билеты его поклонникам в партер. В день премьеры (15 февраля 1830) он пришел вместе с Гюго за восемь часов до начала спектакля, чтобы наблюдать за тем, как будут впускать в еще не освещенный зал верных людей. Молодой Теофиль Готье, командир целого отряда краснобилетников, явился в своем знаменитом розовом камзоле, в светло-зеленых (цвета морской волны) панталонах и во фраке с черными бархатными отворотами. Он хотел эксцентричностью костюма привести в содрогание "филистимлян". В ложах зрители с ужасом указывали друг другу на удивительные гривы романтиков, а молодые художники, глядя на лысые головы классицистов, торчащие на балконе, кричали: "Лысых долой! На гильотину!" Эти писатели, эти художники, эти скульпторы, образовавшие железный эскадрон, отнюдь не были "гнусным сборищем подонков". Они проникали во все уголки, где мог притаиться зловредный "свистун", они хотели защищать свободное искусство. Их горячность была признаком силы. То было прекрасное время, бурное и полное энтузиазма, время, когда роялисты и либералы, романтики и классицисты еще не дрались друг с другом на баррикадах, а сражались в театре.
Наконец занавес поднялся. Столкновение началось с первых же строф: "За дверью потайной он ждет. Скорей открыть". Тут все коробило одних, а других все восхищало. Если б не страх, который нагоняли "банды Гюго", ропот недовольных превратился бы в шумный протест. Две армии напряженно следили друг за другом. "Из свиты я твоей? Ты прав, властитель мой". Слова эти "стали для огромного племени безволосых предлогом для невыносимого шиканья". Но рыцари, защищавшие "Эрнани", никому не позволяли ни одного жеста, ни одного движения, ни одного звука, не продиктованных восхищением и энтузиазмом. На площади перед Комеди-Франсез, во время антракта, книгоиздатель Мам предложил Гюго пять тысяч франков за право напечатать пьесу. "Да вы же кота в мешке покупаете. Успех может уменьшиться". - "Но он может возрасти. Во втором акте я решил было предложить вам две тысячи франков, в третьем - четыре тысячи; теперь вот предлагаю пять тысяч... Боюсь, что после пятого акта предложу десять тысяч". Виктор Гюго колебался. Мам протянул ему пять банковских билетов по тысяче франков. В тот день дома, на улице Нотр-Дам-де-Шан, было только пятьдесят франков. Гюго взял банкноты.
Когда разразилась буря оваций после финала, "вся публика повернулась и устремила взгляд на восхитительное лицо женщины, еще бледное от тревоги, пережитой утром, и волнений этого вечера; триумф автора отражался на облике его дражайшей половины".
После спектакля сотрудники "Глобуса" собрались в типографии журнала. Среди них были Сент-Бев и Шарль Маньен, которому поручили написать статью. Спорили, восторгались, делали оговорки; к радости триумфа примешивалось некоторое удивление и боязливая мысль: "А в какой мере "Глобус" примет участие в компании? Подтвердит ли он успех пьесы? Ведь с воззрениями, выраженными в ней, он в конечном счете мог согласиться лишь наполовину. Тут были колебания. Я тревожился. И вдруг через весь зал один из самых умных сотрудников журнала, который впоследствии стал министром финансов, то есть не кто иной, как господин Дюшатель, крикнул: "Валяй, Маньен! Кричи: "Восхитительно!" И вот "Глобус" опубликовал бюллетень о победе. Зато "Насьоналъ" выступила враждебно и жаловалась на приятелей автора, "которые не имеют чувства меры, не знают приличий". Пришлось порекомендовать преданным защитникам больше не аплодировать по щекам соседей. Следующие представления были организованы Гюго так же заботливо. Оппозиция проявлялась всегда при одних и тех же стихах. Эмиль Дешан советовал убрать слова: "Старик глупец, ее он любит".