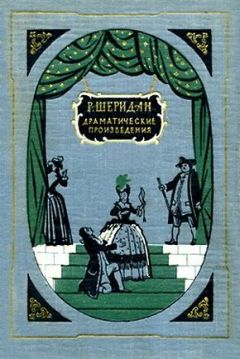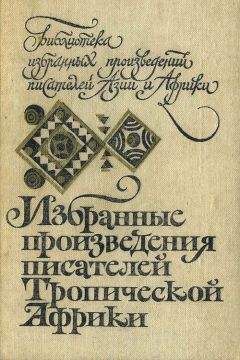Эрни Крустен - Эстонские повести
— Солдаты отвезли балки к ямам, где уголья жгут.
— Ернет наши дома на уголья пустил.
— А уголья продал в Таллин.
— Полбаржи углей…
— А вы — где же поселились?
— Мы построили на своей земле шалаши из хвороста…
— А Ернет велел их раскидать…
— И тогда мы ушли на этом баркасе.
— Мы хочим дальше двинуться, на Ставрополь, да нас здесь на берег не пущают.
— А теперича министр велит нам ехать обратно к Ернету!
— А мы не поедем!
— Нет! Лучше уж я своих детей тут утоплю!
— Послушайте, неужели вас в самом деле отправляют обратно?!
— Точно так. В восемь часов должны отдать швартовы.
Это полковник барон Врангель, петербургский полицмейстер III участка. Как раз в ту минуту он явился с приказом министра. Врангель меня знает. Настолько, насколько меня здесь вообще знают. В подтверждение он поднимает нафабренные усы и лихо щелкает каблуками.
— Мы должны что-то сделать, немедленно.
Это Элла. Она не совсем свободно говорит по-эстонски и решается это делать только с глазу на глаз со мною. Но она все понимает. Как из страшного небытия Элла снова возвращается ко мне. Она сжимает мою руку.
— Они голодают. У них грудные дети. Полиция выдала им немножко муки и селедки. Но этого недостаточно. Мы должны достать для них денег.
— Да, разумеется. Но дома у меня, наверно, и ста рублей не наберется. А банк уже закрыт…
Элла сжимает мою руку. Она обращается к полицмейстеру:
— Господин полковник, вы останетесь сейчас на борту?
— Да, сударыня. Мне нужно составить акт. Я останусь, пока они не отправятся. Увы.
— Очень хорошо. Тогда позвольте нам воспользоваться вашей коляской. Через полчаса мы вернемся.
Элла улыбается ему пленительной улыбкой.
— Если на полчаса, то извольте, сударыня, с удовольствием.
Полковник щелкает каблуками, и Элла тянет меня к каменным ступеням набережной. Мы вскакиваем в полицмейстерскую пролетку. Затылком я чувствую, что сотни глаз неотступно следят за мной… Нашелся вдруг какой-то человек, которого заинтересовала их судьба, и у более доверчивых пробудилась надежда: гляди, гляди, этот господин с крестьянским лицом теперь вмешается, разъяснит там наверху и спасет нас… Дай-то бог… А господин поворачивается к ним спиной и вместе со своей дамой в синих шелках поспешно уезжает в коляске полицмейстера, а на их беспросветном пути нет ни одной души, которая бы им помогла…
Затылком я чувствую, что они смотрят на меня, я вижу рядом с собой Эллу в синем, как Средиземное море, платье и ее густо-синие, потемневшие от волнения глаза, оттененные темными, развевающимися на ветру волосами… Ее несравненные глаза, бесконечно меняющие выражение… Весной, когда я писал ее портрет, она спросила меня:
— Господин Кёлер, почему вы спрятали мои глаза? Вы считаете их некрасивыми?
Неожиданно для самого себя у меня вырвалось:
— Они слишком красивые… Элла… Поэтому я их спрятал. Чтоб весь мир не мог их увидеть на портрете. Чтобы только я один мог ими любоваться… я один…
В тот вечер она не ушла от меня. С того вечера началось мое необъяснимое счастье… Необъяснимое… потому что мне было сорок два, а ей — двадцать два. Боже мой, никогда и нигде я не видел более пленительной женщины. Сияние вундеркинда и золотая пыль парижских и лондонских концертов искрились на ее крыльях. А сама она была так проста и естественна, будто этого и не подозревала. И того, что все мужчины были в нее verkracht[39]… Начиная с моего молодого друга Якобсона… Постой, как же Карл написал про нее в своем стихотворении (он сам прочитал мне его и еще спросил, знаю ли я что-нибудь более выразительное?1)
Als deine Finger durch die Tasten meisterten
Und alles, was dich still umgab, begeisterten,
Die Lüfte dich umwogten lüstern.
Das Echo leise nur dir wagte nachzuflüstern:
Entkörpert stand ich da, in Wonne aufgegangen,
Entführt der Erde füht’, ich mich, doch ohne Bangen…[40]
Да-а. Эти стихи Якобсон посвятил Элле, и я, никогда не помнивший наизусть ни одного немецкого стихотворения, их запомнил. Помню до сих пор, думал о них, даже когда мчался вместе с Эллой в коляске полицмейстера к Поцелуеву мосту… Мое необъяснимое счастье… Я смотрел на ее милое лицо, порозовевшее от воодушевления и желания помочь мне… Сердце у меня от счастья подступает к горлу, честное слово… А в сердце — стыд, как свинец… Я мчусь в лакированной пролетке по петербургским улицам. Моя любимая здесь, со мной рядом. Она все еще держит меня за руку. Всем телом я чувствую ее пылкость. И понимаю, что пылкость ее вызвана моей заботой. Которую она разделяет со мной… Эта пылкость в Элле от нашей совместности. И мне стыдно… Ох, мое дорогое дитя… Я знаю, твой взволнованный интерес к эстонским событиям унаследован тобою от отца. Только его интерес какой-то фантасмагорический и бравурный (я сказал бы немного вздорный, прости меня). Твое волнение серьезно и прекрасно. Серьезно и прекрасно, как ты сама. И предельно искренне… Дорогая, для тебя это игра (да-да), но игра прекрасная и святая… Для меня же это не что иное, как попытка откупиться! Попытка выкупить себя самого, ста рублями избавить себя от ответственности, от причастности… Там, на реке, на баркасе отчаяние. Вызванное чудовищным насилием со стороны человека, которого я пытался убеждать, которого считал мыслящим. Это была непростительная ошибка!.. Баркас полон отчаяния, страна полна невзгод… Какое может быть искупление!.. Сбросить с плеч барское платье, надеть посконную рубаху, пойти к ним на парусник, затеряться в их серой толпе, стать среди них бессловесным, серым бревном баркаса, слиться с их отчаянием, их бедами, их гневом, стать с ними одним… А я мчусь на взмыленных конях к Поцелуеву мосту за ста рублями…
— Тпру-у…
— Джанни, дорогой, сходи за этими ста рублями, я подожду здесь. Потом заедем ко мне. У меня приблизительно столько же. По дороге подумаем, что делать дальше…
Я вбегаю на третий этаж. Врываюсь в квартиру. О боже, как много вещей у меня под ногами. Не вещи мне нужны, а деньги… Я пробегаю через гостиную, мимо нового рояля. На нем раскрыты ноты греческих народных песен. Только час тому назад Элла играла их мне. Этот рояль («Шредер» красного дерева за две тысячи рублей) всего полгода у меня в доме. Для Эллы, чтобы она могла мне играть… Я бегу через студию — между мольбертами с государями, с Христом, с похожими на Эллу красивыми молодыми женщинами — вхожу в спальню. Я выдвигаю ящик ночного столика… В нем нет денег… Проклятье! Какая тьма может застлать память! Я же вчера взял деньги из этого ящика, чтобы, внести последний взнос за рояль. В банке у меня есть еще полторы тысячи… Смешно, но ни одной копейкой больше, после весеннего ремонта и перепланировки квартиры, покупки новой обстановки, рам для картин… А с банковского счета в седьмом часу уже не снимешь… Я бегу вниз и чувствую, что я не так сильно огорчен, как, может быть, следовало ожидать… Ибо, в сущности, я должен быть огорчен не тем, что забывчивость (сама по себе неприятная) лишила меня возможности играть вместе с Эллой в эту благородную игру, я должен быть потрясен тем, что проделали со ста пятьюдесятью людьми… Я сбегаю по лестнице, и ко мне возвращается способность правильно оценивать происходящее. Я, правда, не говорю Элле: знаешь, я забыл, что у меня нет для этого денег… Слава богу, я просто говорю:
— Элла, я забыл, у меня уже нет этих денег…
— Ой, как жаль… У нас совсем мало времени… Поедем!
Через двадцать минут мы на Стремянной. Элла говорит:
— Подожди в коляске. Я сразу вернусь.
Я доволен, что она не повела меня к отцу. Не потому, что этот старый остряк, пропыленный доктор Шульц так уж мне неприятен… Я хожу иногда с ним в ресторан у Аничкова моста обедать, даже когда с нами нет Эллы. Хотя не чувствую себя с ним свободно… Знаю, что это происходит из-за проблематичности моих отношений с Эллой, если так подобает сказать… Каждый раз, когда я пытался с ней говорить о браке, она подходила ко мне, ее руки как две лебединые шеи — обвивали мою уже немного морщинистую, всегда какую-то обветренную шею и говорила:
— Джанни, я хочу быть твоей спутницей. А не твоей вещью.
Кажется, папа Шульц отлично понимает в этом отношении свою дочь, я бы сказал, гораздо лучше, чем я… Кстати, о дочери он говорит со мной чаще всего по-итальянски. А когда рассказывает о своих очередных вчерашних визитерах, переходит на французский, немецкий или русский. В зависимости от того, французских дипломатов, немецких профессоров или русских министров принимал он накануне в трех комнатах шестикомнатной квартиры, которую он занимает вместе с Эллой… Я один занимаю квартиру у Поцелуева моста в семь комнат. (А там, на баркасе, сто пятьдесят восемь человек скопом в одном трюме, провонявшем ворванью… не иначе как сам дьявол, чтобы поиздеваться, наводит меня на мысль: ну да, но они-то там, в трюме, ведь не так чувствительны к запахам, как ты, господин профессор…) Да. По словам папы Шульца, у него то и дело собирается самое избранное общество Петербурга… Кое-кто, наверно, в самом деле бывает… По разговоры ведет такие, что едкий старик Крейцвальд будто бы сказал: он удивляется, почему весь петербургский дипломатический корпус до сих пор еще не переселился к доктору Шульцу-Бертраму. И еще Эллин папа любит рассказывать мне о своих новых великих трудах, к которым он только что приступил или, наоборот, то один, то другой как раз завершает. Для издания в Лейпциге или Берлине (в пятидесяти или ста тысячах экземпляров). На который у него большей частью уже имеется договор… (Ей-богу, бывает, что и в самом деле имеется!) А главное, чтобы я сразу же принялся иллюстрировать его труды. И тем самым заложил бы основу собственной своей всемирной известности… Например, иллюстрациями к «Миру туранских богов», сочинение доктора Бертрама… О своих трудах он часто говорил со мной по-эстонски. Особенно когда они затрагивают непосредственно эстонскую народную поэзию… И на каждом из этих языков он изъясняется с каким-то особым удовольствием, но ни на одном из них (это говорят, впрочем, и обо мне) не говорит вполне правильно… И сейчас вот, когда я здесь, внизу, в коляске полицмейстера жду Эллу, папа, разумеется, сидит наверху в своем кабинете, окруженный беспорядочно разбросанными цензорскими бумагами и медицинскими инструментами офтальмолога — одни по одну сторону, другие по другую, распушив усы с проседью и прищурив сверкающие за очками глаза фантазера, пишет свой «Мир туранских богов», ну, скажем canto шестнадцатое (непременно туранских и непременно canto или что-либо подобное) и причем первых пятнадцати canto еще и в помине нет… Старик, mirabile dictu, сказал бы я, подражая ему, тем не менее член Парижского института истории…