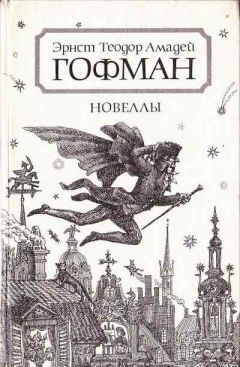Белькампо - Избранное
И, в-третьих, существовало намерение создать национальные государства, но это оказалось невозможно, так как нельзя было провести между ними четких границ. Вокруг чисто национальных областей, своего рода ядер нации, сплошь и рядом встречаются широкие территории, где народы-соседи живут вперемешку. Каждую страну обременяют национальные меньшинства из уроженцев соседних стран, которым она желает провалиться сквозь землю; если бы правящая нация не держала себя в узде из страха перед репрессалиями со стороны оскорбленных соседей, то давно бы приложила все силы для утеснения или вытеснения их соплеменников; тогда бы стало правдой то, что официально выдается за правду ныне.
Все эти три прелести я испытал на собственной шкуре. Когда я прибыл на границу, где-то посреди поля, то мне не разрешили ее перейти: я должен был отметиться в последнем полицейском участке. Как я ни доказывал, пограничники были неумолимы, а когда я попытался пересечь границу в обход, на крестьянской телеге, откуда-то издалека примчались несколько солдат, заприметившие мой маневр, сняли меня с телеги и повели под конвоем к начальству. Там я получил приказ вернуться назад на шестнадцать километров за печатью в паспорт. Пришлось выполнять приказ.
Чтобы не топать пешком это расстояние обратно, уже в третий раз, я поехал до ближайшей венгерской станции поездом. Новоиспеченные государства сели в такую лужу со своими финансовыми делами, что деньги соседей обмениваются всюду по ничтожному курсу. Поэтому мне не хватало денег на оплату венгерской транзитной визы; полученные еще на пароходе в Генуе от дяди десять голландских гульденов мне вообще не захотели обменять — не знали, по какому курсу. Это был последний поезд, и на ночь меня упрятали в каталажку, дав бутылку воды.
С первым поездом я поехал назад, в Югославию. Мне сказали, что пустить меня не могут, так как моя транзитная виза погашена печатью в момент выезда. Тогда я сказал, что хочу доехать только до Осиека, обменять там в банке голландские деньги, на что чиновник ответил, что для этого транзитной визы недостаточно, с такой визой можно с одной стороны въехать, с противоположной — выехать; нужно купить обычную визу, но это обойдется впятеро дороже.
Злой как черт, я вышел из конторы, сел на лавку напротив дверей и стал глазеть на входящих и выходящих чиновников. Этим я занимался полдня. Наконец, когда отправлялся поезд до Осиека, я на нем уехал. Тем же поездом, что и накануне, я прибыл в Венгрию. Вместе со мной ехала венгерская крестьянка, просидевшая рядом в той же каталажке, где и я, с тяжелой поклажей. Она ездила, тихо плача, взад и вперед между обоими пограничными пунктами. Это был последний поезд, и ее снова отправили в каталажку.
На следующий день я вышел через равнину к Мохачу; кругом в почве было множество дырок, в которые пролезал палец; при моем появлении в эти дырки быстро прятались черные жуки.
Из Мохача я целый день плыл вверх по Дунаю; пароход шел медленно, поворачивая лопасть за лопастью. Вода была бежевой и не меняла цвета, берега прятались за ивами, то тут, то там попадались водяные мельницы с вращающимися цилиндрическими колесами; иногда на берегу пестрели яркими воскресными красками деревенские костюмы.
И вот я, сойдя с попутного грузовика, стою в центре Будапешта. Пока я прохаживался, глядя по сторонам, ко мне подошла девушка и спросила, не ищу ли я что-нибудь. Да, дешевый ночлег. Она ведет меня в бюро попечения студентов и после телефонного разговора устраивает в отдельную комнату студенческого общежития. Тем же вечером я получаю приглашение на ужин; в Венгрии мне было хорошо.
Когда я пришел в гости, меня встретили ликером. Было много разных вин; после ужина мы поехали в такси на Геллертхедь, высокий утес на берегу Дуная, откуда святой Геллерт сбрасывал в реку язычников, отказавшихся креститься. Там мы долго сидели в открытом павильоне, внизу под нами море городских огней, рядом с нами хор цыган, а перед нами вишнево-красное венгерское вино. Пение цыган то разжигало, то нагоняло тоску. Самой тоскливой была песня ностальгии, мольба тысяч отрезанных от родины мадьяр о возвращении домой. Настроение до такой степени накалилось, что некоторые гости вдребезги разбивали свои бокалы об пол или швыряли их в открытые окна веранды. Дирекция была этим явно недовольна, и нам пришлось удалиться.
В Венгрии помыслы людей направлены на возвращение отторгнутых областей. Этим настроением охвачены все от мала до велика. Первое, что внушают детям, — не успокаиваться, покуда их страна не станет такой же обширной, как прежде. Символ этой веры, карта Венгрии до Версаля и нынешней Венгрии, висит над каждой дверью, как свиток с законами Моисеевыми у иудеев.
Будапешт красивым не назовешь, наиболее красивое и достопримечательное в нем сами мадьяры, народ романтичный и темпераментный, — остров среди моря чужих народов, которые его совсем не понимают и не ценят. Кто его знает, не может не любить, и, если бы в большую политику допустить хоть чуточку любви, так было бы всегда.
Через два дня я ушел из Будапешта: и познанию новых миров приходит однажды конец; я больше не мог и больше не хотел, мне требовался покой, чтобы переварить все это чудовищное обилие картин, образов, впечатлений, как удаву, заглотавшему целого поросенка. Новое для меня больше не имело ценности, его было чересчур много. Так было с Веной и Прагой, которые я обежал второпях, передо мной были реальные вещи, а я будто перелистывал атлас.
Чудеснейшую ночь провел я напоследок в Венгрии, в скирдах сена посреди равнины. В одной из этих гор была пещера, куда как раз умещалось мое пуховое одеяло, так Что голова моя торчала наружу и могла осматриваться. Несколько раз вдали проезжал поезд, и его было слышно еще минут пятнадцать, на соседней горе сена как вкопанный стоял в недвижном воздухе аист, вначале естественного цвета, потом черным силуэтом; когда я утром проснулся, его уже не было.
На второй день после Праги я был в Дрездене: мне уже давно было непонятно, почему людям кажется, что до Амстердама далеко, мне-то казалось, я уже почти дома.
За Дрезденом меня подцепило чудо человеколюбия. «Kommen sie herein, mein Lieber, im Dritten Reich hilft ein Mensch dem anderen».[71]
С этой минуты филантроп обрушил на меня следующие благодеяния.
Первое благодеяние: он провез меня в своем автомобиле полтораста километров до Лейпцига;
второе благодеяние: в своем автомобиле он разрешил мне есть сколько влезет бананы и апельсины;
третье благодеяние: в Лейпциге он дал мне денег на трамвай, чтобы я смог там кое-кого навестить;
четвертое благодеяние: он нанял комнату с двумя кроватями, одна из которых предназначалась мне;
пятое благодеяние: когда я вернулся, на столе меня ждал ужин;
шестое благодеяние: утром он распорядился подкатить мне завтрак;
седьмое благодеяние: за свой портрет, который я нарисовал для его невесты, он категорически заставил меня получить с него одну марку;
восьмое благодеяние: когда я собирался уходить, он напихал мне в рюкзак уйму разных колбас, которыми торговал в разъездах (он был коммивояжером по колбасной части); «по крайней мере на первое время ты обеспечен», — сказал он;
девятое благодеяние: уже дома я обнаружил у себя в кармане одну марку, явно подсунутую мне украдкой на прощание.
Я так объелся колбасы, что занемог животом; на мое счастье, я был в районе каменноугольного бассейна, повсюду на дороге валялись куски потерянного при перевозке топлива; я поднял кусочек угля, съел его, И колики в животе прошли.
Вдоль отрогов Гарца путь привел меня в Хильдесхайм, деревянное чудо, последнее в моем столь богатом чудесами странствии. Там я задержался на несколько дней. Часами я просиживал в большом соборе, осматриваясь вокруг. Дух готики, проникнув в меня и смешавшись с моими ренессансными впечатлениями, вызвал брожение моего собственного духа и породил целый рой мыслей и образов, которые я излагаю здесь как апофеоз.
Цель науки — упростить нашу картину мира.
Наука, исследующая прошлое, — это история.
Опыт учит, что картина мира у того, кто занимается историей, становится богаче, но никоим образом не проще; история, следовательно, не отвечает цели, которая должна ставиться перед любой наукой. Наука без этой цели ограничивается собиранием фактов и потому наукой именоваться не может.
В чем здесь причина и есть ли тут необходимость?
Причина в следующем.
Любой исторический факт есть настолько запутанный комплекс обстоятельств, что выявление причинной связи между подобными фактами крайне затруднительно, как и опирающееся на нее установление законов, чему примером точные науки.
Любой исторический факт есть настолько запутанный комплекс обстоятельств, что он случается только однажды. L'histoire ne se répète jamais.[72] Отсюда следует, что если даже исторические законы возможно установить, то проверить их абсолютно невозможно.