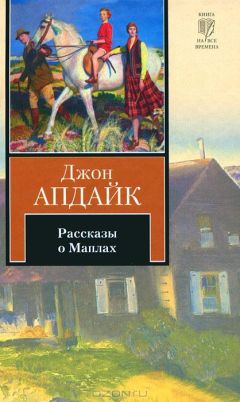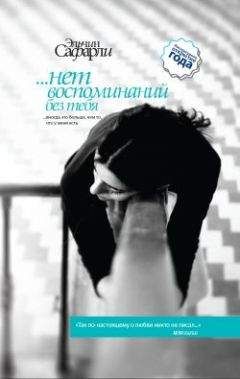Джон Апдайк - Россказни Роджера
— Залетела?
— Ну да, забеременела, — кивнула она. Подкрашенные волосы упали на невысокий лоб, почти совсем закрыв его. Верне не хотелось оправдываться, но она сказала сдавленным голосом: — Сама не знаю, почему так получается. Стоит ребятам только моргнуть...
— Ты говоришь — ребятам?
— Да ладно тебе, дядечка! — Потом произнесла четко, как цитату из колонки советов в женском журнале: — Современная молодая женщина сама выбирает себе партнеров, и вообще...
То и дело повторяемое «дядечка» звучало как насмешка, и тем не менее мой приход подбодрил ее.
— Разве Дейл ничего тебе не говорил?
— Говорил, что тебя что-то гложет, но без уточнений. Сказал, правда, чтобы я у тебя побывал.
— Поэтому ты и пришел? Ну спасибо.
— Что же ты собираешься делать?
Верна пожала плечами, и по рассеянному взгляду, каким она окинула свое жилище, я понял, что она уже забыла и о своей проблеме, и о слезах, и объятиях. Из другой комнаты слышалось радио. Музыка перебивалась балагурной скороговоркой. Затем женский голос словно сбился: «Эй, теперь порядок. Вы на волне «Чащобы». На ящике из-под молочных пакетов молчал телевизор. Комната теперь была похожа на студенческий угол. Появилась книжная полка, крашенная белой краской, где стояли модные журналы и принесенная мной хрестоматия. Появилось новое кресло с пышными, чересчур туго набитыми сиденьем и спинкой, оно что-то напоминало мне, но я не мог сообразить, что именно.
По-настоящему мой вопрос должен был бы остаться невысказанным — как и те теологические вопросы, которыми мы с Дейлом возмущали воздух. Но Верна забывала, что поступки имеют последствия. Ее лицо изменило выражение: еще немного, и она опять ударится в слезы, с какими встретила меня.
— Не знаю, ничего не знаю. Не хочу я ничего делать!
Надо было действовать решительнее.
— Тебе нельзя иметь еще одного ребенка. Тогда ты вообще увязнешь.
Меня вдруг осенило: новое Вернино кресло напоминало мне тот стул с вельветовой обивкой для сидения в постели, который нес на голове высокий молодой негр, когда я шел сюда по бульвару Самнера перед выборами. Разные формы, разные расцветки, но от обоих предметов веяло какой-то безысходной обреченностью. Я потрогал оранжевую обивку.
— Ты, вижу, нашла применение деньгам, что я тебе дал.
— Это кресло для моего дядечки, — сказала Верна тонким голоском, подражая маленькой девочке. — Чтобы он посидел, когда придет в гости. Если придет.
Я опустился в кресло на упругий новый поролон.
— И сколько же раз у тебя не было месячных?
— Кажется, два, — ответила она угрюмо.
Это было ниже моего достоинства — садиться в кресло. Теперь мое лицо находилось на уровне ее бедер. Я был еще взбудоражен тем, что держал ее в объятиях, все еще чувствовал ее тело, ее вес, чувствовал напряженность и свою ответственность. Существует особый, необычный момент эротической истины — не замечали? Момент, когда мы смотрим на человеческую особь противоположного пола как на самку двуногих существ, обреченную, как и самцы, на каждодневную рутину: физические усилия, сон, прием пищи, испражнения. Мы вместе в ней. In carnem.
— Кажется... — заметил я довольно резко. — Ты что, не умеешь считать?
— Подходит третий срок, — проворчала она. Ее бедра в черной юбке покачивались перед моими глазами. Она начинала заигрывать со мной.
— Значит, нет проблемы. Сделать аборт, и все. Скажи спасибо, что сейчас это просто. Когда мне было девятнадцать, приходилось просить разрешения на аборт, унижаться. Аборты были запрещены: считались опасной операцией, многие женщины умирали. Находятся идиоты, которые хотят вернуть те жуткие времена.
— Тебе тоже приходилось просить и унижаться?
— Мне нет, — ответил я неохотно. — Моя первая жена не могла иметь детей. Для нее это была трагедия.
— Но если б могла, ты бы заставил ее идти на риск и делать аборт?
— Мы были женаты, Верна, нечего сравнивать.
— Знаешь, дядечка, а я согласна с теми идиотами. Плод — живое существо. Его нельзя убивать.
— Не пори чепуху! В два месяца никакого плода нет — так, орешек, икринка.
— Сам не пори! Этот орешек во мне, а не в тебе. Я просто чувствую, как он хочет жить. И потом, я по телику видела, как они щипцами ребенка за голову...
— Хватит! О себе подумай. Куда тебе еще один чернокожий ребенок, когда ты и с одним-то жизни не видишь и бесишься.
В любом споре, даже в самом серьезном, бывает момент, когда суть дела куда-то ускользает и все внимание сторон переключается на сам спор, пререкание, взаимный запал. Игривость пристала ее бедрам, как туго обтягивающая их юбка.
— Кто сказал, что ребенок будет чернокожим? — понизив голос и с придыханием сказала она.
— Не важно, какой он будет! — продолжал я горячиться. — Даже если белый, как лилия, нечего ему делать в этом мире. Хочешь, чтобы он всю жизнь страдал? — Я пожалел, что не взял с собой трубку.
— Хочешь знать, дядечка? Мне нравится рожать. Чувствуешь, как ребенок в тебе растет и растет, а потом вроде как чудо. Ты будто раскалываешься, и вас уже двое.
Я подпер голову руками и подумал, что более выразительного возражения не придумаешь. Ее тело скользнуло ближе к креслу.
— А еще хочешь знать?
— Не уверен. — В горле у меня пересохло.
— Мамка не хотела меня рожать, но отец жутко религиозный был, даже до того, как начал рака бояться. Не позволил ей сделать аборт. Поэтому я на него не очень злюсь, что он меня с Пупси из дома выставил. Если б не он, меня бы просто на свете не было. Нигде бы не было.
В дверь постучали. Стук был негромким, нерешительным, но в квартире было мало мебели, хорошая акустика, и потому он показался оглушительным, как пистолетный выстрел над самым ухом.
— Верна? — спросил мягкий рокочущий баритон. — Ты дома, цыпочка?
Мы с Верной застыли, я — в кресле, она стояла рядом, ее бедра были в трех дюймах от квадратного подлокотника. Я поднял голову, посмотрел на нее, она посмотрела на меня, наклонив голову, отчего образовалось несколько подбородков. Потом улыбнулась лукавой материнской, с ямочкой на левой щеке, улыбкой, которой скрепляла наш заговор молчания.
Мужчина за дверью постучал снова, на этот раз громче, решительнее, потом было слышно, как он переступил ногами и присвистнул от нетерпения.
— Не притворяйся, что не слышишь.
Ни Вернин взгляд, ни ее улыбка не изменились, но своими пухлыми, с короткими ногтями пальцами она приподняла юбку, приподняла с тихим шелестом, который мог слышать только я, потом выше, еще выше, до пояса. Она была без трусов. Во рту у меня вмиг пересохло.
— Ну ладно, Верна, — сказал мужчина за дверью самому себе и задумчиво настучал по двери костяшками пальцев какую-то музыкальную фразу. Ее бледно-желтые ноги были как две небольшие стройные точеные колонны, между ними — широкий, как и ее лицо, куст, но волосы в нем — более темные, чем на голове, и завивались сильнее. Завитки поблескивали дужками отраженного света то здесь, то там, дужки сливались в колечки, образуя как бы круглые окошки, сквозь которые просвечивала кожа.
Человек за дверью тяжело и неестественно вздохнул, потом послышалось шарканье ног: он уходил.
Верна опустила юбку и отступила назад. На губах по-прежнему играла улыбка, но взгляд стал серьезным и холодным, едва ли не враждебным.
— К чему этот спектакль? — прошептал я.
— Да так, — сказала она своим обычным голосом. — Просто чтобы занять время, пока он там торчал. Я подумала, ты, может, заинтересуешься. И говори нормально, не шепчи. Он, наверное, слышал нас и стучал, чтобы позлить меня.
— Кто же это был?
— Друг — так ведь говорят?
— Он отец ребенка?
— Вообще-то вряд ли...
— Может быть, отец — Дейл?
— А что, это меняет дело? Можно оставить ребенка?
— Не думаю... Но если это он, то вам надо решать вместе.
— Нечего мне решать, дядечка. И вообще, я тебе давно сказала, не трахаемся мы. Он не такой, как ты. Не считает меня соблазнительной.
— Да, ты — соблазнительная. — То, что она выставила напоказ, потом останется в моей памяти как живое существо, как морской еж на белом океанском дне. Когда она заголилась, на меня пахнуло каким-то особым запахом, сродни знакомому с детства запаху лущеного арахиса, но шел этот запах откуда-то издалека, от начала жизни. Сухость во рту постепенно проходила.
Верна бесцельно ходила по комнате, она была вполне довольна собой.
— Если делать аборт, то это ведь не бесплатно, дядечка.
— В специальных муниципальных больницах — бесплатно. Для того их и создавали, чтобы девочки вроде тебя не краснели перед родителями.
— Да, но все равно они взимают какую-то плату. Это ведь часть рейганомики. Я, может, вообще не хочу в такую больницу. Оттуда уже через час выставляют. Может, я вообще боюсь операций, и мне надо ложиться в обычную клинику. И если я все-таки решусь, не должна ли получить что-нибудь за мои моральные страдания?