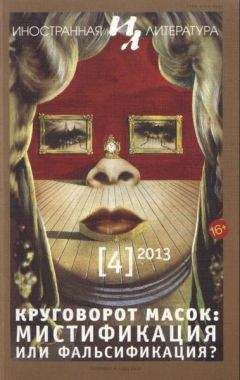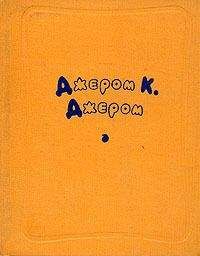Адольфо Касарес - Козни небесные
Выйдя из церкви, Моррис стал искать улицу Ривадавии. Он остановился перед двумя башнями, похожими на вход в замок или старинный город; на деле это был вход в пустоту, теряющуюся в бесконечном мраке. Ему чудилось, будто его окружает какой-то зловещий, сверхъестественный Буэнос-Айрес. Он прошел несколько кварталов; устал, добрался до Ривадавии, взял такси и назвал свой адрес: улица Боливара, 971.
Он отпустил такси на углу улиц Независимости и Боливара; подошел к двери дома. Еще не было двух. Времени оставалось достаточно.
Он хотел вставить ключ в замок; ничего не получилось. Нажал кнопку звонка. Никто не открывал; пробежали десять минут. Он возмутился тем, что служанка, воспользовавшись его отсутствием — его бедой, — ночует не дома. Изо всей силы нажал звонок. Услыхал доносившийся как будто очень издалека шум; потом уловил приближавшийся ритмичный стук шагов — один громкий, другой приглушенный. Появилась мужская фигура, в полумраке казавшаяся огромной. Моррис опустил поля шляпы и отступил в темный угол подъезда. Он сразу узнал этого взбешенного, сонного человека и подумал, уж не спит ли он сам. Да, да, хромой Гримальди, Карлос Гримальди. Теперь он вспомнил это имя. Теперь, как ни невероятно, он стоял перед жильцом, занимавшим дом, когда его купил отец Морриса, более пятнадцати лет назад. Гримальди грубо спросил:
— Чего надо?
Моррис вспомнил, на какие только хитрости не пускался этот человек, упорно не желая уезжать из дома, вспомнил бессильное негодование отца, который то грозился, что «вывезет его на свалку», то осыпал подарками, лишь бы тот убрался с глаз.
— Дома сеньорита Кармен Соарес? — спросил Моррис, «чтобы выиграть время».
Гримальди выругался, захлопнул дверь, погасил свет. В темноте Моррис услышал, как удаляются неровные шаги; потом, дребезжа стеклами, гремя колесами, проехал трамвай, потом наступила тишина. Моррис с облегчением подумал: «Не узнал он меня». Но тут же испытал стыд, удивление, негодование. Ему хотелось вышибить ногой дверь, выгнать этого наглеца. Словно пьяный, он заорал во все горло: «Да я в полицию заявлю!» И вдруг, забыв о Гримальди, задумался, что, собственно, означает эта враждебность, какую один за другим проявили к нему все его товарищи. Он решил посоветоваться со мной.
Если застанет меня дома, то еще успеет рассказать обо всем, что произошло. Он остановил такси и велел везти его в проезд Оуэна. Шофер о таком никогда не слышал. Моррис сердито спросил, чему только их учат. Он был зол на всех: на полицию, которая позволяет, чтобы в наши дома врывались всякие проходимцы; на иностранцев, которые портят нашу страну и не умеют водить машину. Шофер предложил ему взять другое такси. Моррис велел ему ехать по улице Велеса Сарсфильда и пересечь железнодорожные пути.
Тут их задержали шлагбаумы; по путям маневрировали бесконечно длинные серые поезда. Моррис велел объехать станцию Сола по улице Толл. Вышел на углу улиц Австралии и Лусурьяги. Шофер потребовал, чтобы он заплатил, не может он ждать его, нет здесь такого проезда. Моррис не ответил, он уверенно зашагал по улице Лусурьяги на юг. Шофер ехал за ним, ругаясь на чем свет стоит. Моррис подумал, что, попадись навстречу полицейский, оба они будутночевать в участке.
— Кроме того, — сказал я, — выяснилось бы, что ты сбежал из госпиталя. У сиделки и всех, кто тебе помогал, были бы неприятности.
— Это меня мало беспокоило, — отмахнулся Моррис и продолжал рассказ.
Он прошел квартал — проезда не было. Прошел другой квартал, третий. Шофер по-прежнему ругался; не так громко, но с еще большей издевкой. Моррис зашагал обратно, свернул на Альварадо, дальше был парк Перейра, потом улица Рочадале. Он пошел по Рочадале; в середине квартала, справа, дома должны были расступиться и открыть проезд Оуэна. Моррис почувствовал, что сейчас ему станет дурно: дома не расступались, он оказался на улице Австралии. Высоко, на фоне ночных туч он увидел водонапорную башню, стоявшую на Лусурьяги, — проезд Оуэна должен быть напротив, его не было. Моррис взглянул на часы. Оставалось едва лишь двадцать минут.
Он пустился чуть не бегом. Но тут же увяз в глубокой, скользкой грязи перед рядом одинаковых мрачных домишек, сам не понимая, где он. Хотел вернуться к парку Перейра, не нашел его. Моррис боялся, как бы шофер не понял, что он заблудился. Тут он увидел прохожего, спросил у него, где проезд Оуэна. Человек жил в другом районе. Моррис в отчаянии двинулся дальше. Показался другой прохожий. Моррис бросился к нему. Шофер выскочил из машины и тоже подбежал. Моррис и шофер, крича во все горло, стали добиваться, не знает ли прохожий, куда девался проезд Оуэна. Человек перепугался, очевидно приняв их за грабителей. Он ответил, что никогда не слышал о таком проезде, хотел еще что-то сказать, но Моррис грозно посмотрел на него. Было уже четверть четвертого. Моррис велел шоферу везти его на угол Касероса и Энтре-Риос.
У госпиталя стоял другой часовой. Моррис раза два прошелся перед дверью, не смея войти. Наконец решился испытать судьбу: показал кольцо. Часовой пропустил его.
Сиделка появилась только на следующий вечер.
Она сказала:
— На сеньора из церкви ты произвел неблагоприятное впечатление. Ему пришлось принять твой обман: всегда он порицает за это членов содружества. Но твое недоверие оскорбило его.
Она сомневалась, что сеньор действительно выступит в пользу Морриса. Положение осложнялось. Надежды выдать его за иностранца улетучились, жизни его грозила прямая опасность.
Моррис написал подробнейший отчет обо всем, что произошло, и послал его мне. Теперь он хотел передо мной оправдаться: сказал, что женщина извела его своими волнениями. Возможно, он и сам стал волноваться.
Идибаль еще раз посетила сеньора; из доброго отношения к ней — «шпион не лишен привлекательности» — он обещал, что «самые влиятельные силы решительно вмешаются в дело». План заключался в том, чтобы обязать Морриса наглядно восстановить события; другими словами, ему дадут самолет и разрешат воспроизвести испытание, которое он якобы проводил в день аварии.
Влиятельные силы взяли верх, но самолет, предназначенный для испытания, будет двухместным. Это затрудняло вторую часть плана: бегство Морриса в Уругвай. Моррис сказал, что с сопровождающим справиться сумеет. Влиятельные силы настояли, чтобы выделен был точно такой же моноплан, как тот, что потерпел аварию.
Идибаль целую неделю изводила его своими надеждами и тревогами, но вот наконец пришла, сияя от радости, и объявила, что все устроено. Испытание назначено на ближайший четверг (оставалось пять дней). Полетит он один.
Женщина тревожно посмотрела на него и сказала:
— Я буду ждать тебя в Колонии. Как только «оторвешься», бери курс на Уругвай. Обещаешь?
Он пообещал. Повернулся лицом к стене и сделал вид, будто заснул. «Понимаешь, — объяснил он, — она словно заставляла меня жениться, и я разозлился». Он и не подозревал, что они прощаются навеки.
Моррис был уже здоров, и на следующий день его перевели в казарму.
— Чудесные были дни, — сказал он, — знай себе пили мате или пропускали рюмочку с часовыми.
— Не хватало еще, чтобы вы играли в труко[5], — сказал я.
Это было просто наитием. Разумеется, я не мог знать, играли они или нет.
— Что ж, и в картишки раз-другой перекинулись.
Я был поражен. Очевидно, случай или обстоятельства сделали Морриса образцом аргентинца. Вот уж не думал, что он станет носителем местного колорита.
— Можешь считать меня болваном, — продолжал Иренео, — но я часами мечтал об этой женщине. Так с ума сходил, что в конце концов подумал, будто забыл ее.
— Пытался вспомнить ее лицо и не мог? — спросил я.
— Как ты догадался?
Не дожидаясь ответа, он стал рассказывать дальше.
Дождливым утром его высадили из какого-то допотопного автомобиля. В Паломаре его поджидала важная комиссия, состоявшая из военных и чиновников. «Это напоминало дуэль, — сказал Моррис, — дуэль либо казнь». Двое или трое механиков открыли ангар и выкатили истребитель «Девотин», «достойный соперник древнего автомобиля».
Он запустил двигатель, увидел, что горючего едва хватит на десять минут полета; лететь в Уругвай было невозможно. На минуту ему стало грустно. С печалью он подумал, что, пожалуй, лучше умереть, чем жить рабом. Хитроумный замысел провалился; лететь бесполезно, он хотел было позвать этих людей и сказать им: «Сеньоры, дело кончено». Но равнодушно предоставил событиям идти своим чередом. Решил еще раз испробовать новую схему испытаний.
Самолет пробежал каких-нибудь пятьсот метров и оторвался от земли. Он точно выполнил первую часть испытания, но едва перешел к новым методам, как опять почувствовал дурноту и услышал собственную жалобу на то, что теряет сознание. Перед самой посадкой успел выровнять самолет.
Когда он пришел в себя, все тело у него болело, он лежал на белой койке, в высокой комнате с белесыми голыми стенами. Он понял, что ранен, что его задержали, что находится в Военном госпитале. Он спросил себя, не было ли все это галлюцинацией.