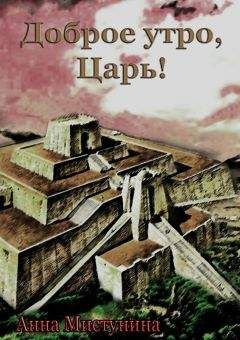Криста Вольф - На своей шкуре
Мой друг Урбан принадлежал к первой категории. Он только-только успел начать, с подобающей порцией самоиронии, рассказ о том форуме в другой части города, на котором ему, официально приглашенному (этому он придавал большое значение), пришлось делать сообщение о новейших культурных событиях в нашей стране, как мы уже услыхали за непрозрачным окошком стук штемпеля, в прорези под окошком появился Урбанов документ, первый сотрудник в форме взял его и, еще раз сравнив фотографию с оригиналом, вручил владельцу. Не без легкой гордости тот принял свой документ: на компьютеры-то хотя бы можно положиться! - а затем из солидарности довольно долго ждал ее, после таможенного досмотра, который он тоже прошел без заминок. Да, на компьютеры можно было положиться, для сотрудника из будки в них явно внесли указание помурыжить ее на границе и даже на всякий случай по телефону сообщить вышестоящей инстанции, что к ее пропуску не придерешься, она так и сказала Урбану, когда наконец очутилась с ним рядом, без таможенного досмотра, как и он сам. Он усмехнулся, немножко криво, конечно же испытывая какую-то противоестественную зависть к тому, что компьютеры не пропустили ее так гладко, как его, с другой же стороны, он бы обеспокоился, случись ему ждать своих документов так долго, как ей. У выхода из этой единственной в своем роде постройки, воздвигнутой над вратами в антимир и из антимира, их пути сразу разошлись. Ее старый друг Урбан направился к стоянке такси у вокзала Фридрихштрассе, а она свернула налево, к мосту Вайдендаммер-брюкке, проходя по которому я непременно шлю насмешливую улыбку чугунному прусскому орлу на парапете и даже стараюсь его потрогать.
Я не спросила Урбана, какой пост он теперь занимает, а он, видимо, ничуть не сомневался, что я следила за его карьерой, которая после убедительного для всех нас и бесспорного старта вполне логично вела его вверх по ступенькам, все выше, куда-то в незримость, но, очевидно, и там, за кулисами, успешно продолжалась. Я не оглянулась на него, однако спиной чувствовала, что он смотрит мне вслед.
Когда живешь на свете достаточно долго, ситуации повторяются, причем порой оборачиваются своей противоположностью. Однажды, много лет назад, я вот так же смотрела ему вслед, а он - дело, кажется, было после какого-то заседания - нарочито поспешно спустился по лестнице и исчез не попрощавшись, причину она запамятовала, вероятно ему было неловко перед нею из-за какого-то инцидента - так или иначе он не хотел попадаться ей на глаза. Да, она тогда долго смотрела ему вслед и чувствовала себя препаршиво.
А как она теперь себя чувствует? Надо бы всякий раз говорить заведующему отделением одно и то же: я на дне шахты, из которой мне не выбраться, потому что нет сил. Она говорит: Ничего. Похоже, он меньше полагается на ее ответы, чем на результаты собственного осмотра, ощупывает ее, считает пульс, приподнимает ей веки, спрашивает, какая температура была у нее при последнем измерении, но палатная сестра Кристина напоминает, что температуру меряют только два раза в день, после чего завотделением велит мерить температуру этой пациентке каждые три часа: будьте любезны, говорит он палатной сестре, у которой красивые белокурые волосы, локонами обрамляющие лицо. Она записывает распоряжение, не говоря ни слова. Однако же в уголках губ прячется обида. Что такое, сестра Кристина? - говорит завотделением. И слышит в ответ, что сестер в отделении недостаточно. Пациентка, хотя и не может толком говорить, но слышит вполне хорошо и отнюдь не хочет знать, какие сложности для ухода за больными отсюда проистекают, а потому благодарна заведующему отделением, когда он знаком показывает сестре, что это они обсудят позже. Пациентке он делает новое сенсационное назначение: ей можно "глоточками" выпить немного чаю. Перед ней опять возникает призрак огромного стакана пива, белая пена соблазнительно льется через край, ей никак не удается отогнать это видение. Она ждет чай и спрашивает себя, способна ли хоть одна из сестер - ей слышно, как они, смеясь, переговариваясь, двигая каталки, снуют по коридору, - представить себе, чту значит для нее каждая лишняя минута ожидания. В конце концов одна из двух молоденьких приносит чашку, чернявая, миловидная, с родинкой на левой щеке, она ловко ставит чашку на ночной столик и опять исчезает, как видно не задумываясь над тем, сможет ли жаждущая дотянуться правой рукой до столика, сумеет ли достаточно высоко приподнять голову, чтобы напиться из этой чашки. Но тут - какое счастье! - в палату входит стриженный ежиком молодой человек в белом халате, который секунду-другую наблюдает за ее тщетными усилиями. Та-ак! - говорит он, выходит и спешно возвращается с поильником, переливает туда чай, приподнимает ей голову, подносит носик к губам. Она пьет; стало быть, на свете существует не только слово, но и само действие - пить. Спасибо, говорит она. Эвелин еще учится, говорит он. На втором курсе. Некоторые вещи ей пока невдомек. Его зовут Юрген, он на третьем курсе, скоро выпускные экзамены. Она отпивает всего три глотка, и он успокаивает ее. Вы даже не представляете себе, как быстро желудок съеживается, говорит он. И уходит.
Поток опять вздувается. У него есть имя: изнеможение. Сознание отступает, уходит на дно. Идти ко дну, погибать. На этот раз кромсающий уши грохот создают самолеты. Штурмовики, нескончаемая вереница штурмовиков прямо у нас над головами. Все-таки есть, наверно, некий тайный смысл в том, что мне демонстрируют все виды человеческих жертвоприношений. Хотя смысл может быть прост: после стольких лет, стольких десятилетий самообмана наконец-то убедить меня в пронзительной бессмысленности всего происходящего. Так, что ли? Ведь нам вбили в голову, что всё и вся, коль скоро оно может быть рассказано в форме истории, обретает смысл, доказывает свою осмысленность. Я начинаю догадываться, из каких источников идут картины, на которые меня заставляют смотреть, едва лишь режиссер на внутренней моей сцене отключается.
Я прошу тебя, раз уж ты вдруг опять здесь - какое сейчас, собственно, время дня, вечер? интересно как-никак, - я прошу тебя принести сюда синюю книжечку со стихами Гёте. Завтра же. Но замечаю, что в голове у тебя другие заботы. Стало быть, ты поговорил с заведующим отделением, у меня за спиной. Он слегка недоволен моей температурой. Думает, придется оперировать еще раз, чтобы удалить абсцесс, предположительно создающий такую температуру.
Дай мне, пожалуйста, попить. На сей раз она делает целых четыре глотка. Странным образом на ум ей приходят сплошь гётевские стихи. Какое стихотворение тебя интересует? - спрашиваешь ты. - Ах, в особенности вот это: Скорбь, радость купно / Тонут в грядущем, / Темно идущем, / Но неотступно / Стремимся дале[4]... Как дальше - не помню. Что-то насчет "покровов", кажется. Мне нужна книга.
Кстати, знаешь, как-то раз, не найдя этого стихотворения, я позвонила Конраду, потому что из наших друзей именно он помнил все стихи, какие когда-либо читал, а читал он их много. Я не догадалась поискать среди масонских песен, Конрад же сразу назвал мне стихотворение, он знал его наизусть и просветил меня насчет отношения Гёте к вольным каменщикам. В Йене, в нашем первом гётевском семинаре, Конрад задавал тон, он и выставку "Общество и культура гётевской эпохи" в веймарском замке помогал готовить, только об этом и говорил, когда вечером иной раз провожал меня, до комнатушки в доме Ницше. Дескать, нет ничего увлекательнее, чем исследовать, каким образом определенные общественные отношения сковывают гения и какие приемы гений изыскивает, чтобы хоть на время и отчасти от этих оков освободиться.
Забавно, как работает мозг. Почему сейчас мне вспоминается Конрад? Он был человек порядочный, говорю я, неспособный действовать против своих убеждений. Не то что действовать, но даже высказываться против своих убеждений. Он бы и сегодня по-прежнему был нашим другом, тебе не кажется? Слишком рано он умер. Да, рассеянно говоришь ты, но мне сейчас не об этом надо беспокоиться. Ты принес черный радиоприемничек, на пробу включаешь его, мужской голос деловито сообщает о новом крушении рейсового самолета, число жертв... - Ради Бога, говорю я, выключи. - Ну конечно, говоришь ты. Конечно. А в чем дело? - Ни в чем. Ни в чем. Просто я не в силах вынести даже крошечного обрывка дурной вести, понимаешь? - Ладно, ладно.
А теперь уходи, пожалуйста, говорю я. И слышу в ответ: Ты просто закрой глаза. Не обращай на меня внимания. Я пытаюсь. В тот же миг снова начинается грохот. - Уходи. - Позднее я, наверно, стану удивляться, что выдерживала твое присутствие не более получаса. Теперь нет сил ни удивляться, ни выдерживать хотя бы и легкий намек на дурную новость. Надо взять на заметку, что слабость может достичь такого уровня, когда нельзя принять на свои плечи ни миллиграмма жалости и сострадания даже к людям очень далеким, не говоря уж о близких. Напрасно ты сказал мне, что у Хелены кашель, пускай и вышло так от замешательства, это я точно заметила, ведь я умоляла не рассказывать ничего плохого, и ты вообще не знал, о чем говорить, а пятилетнему ребенку кашель ничем особенно плохим не грозит, но так или иначе я бессильна помешать тому, что Хеленочка кашляет и кашляет, что у нее определенно начнется бронхит, который так легко может стать хроническим, со всеми ужасными последствиями, и меж тем как эти ужасные последствия распространяются во мне, рейсовый самолет снова и снова терпит крушение, падает вместе с еще живыми, но теперь, через доли секунды, размозженными, раздавленными, сгоревшими, искромсанными пассажирами, и я могу лишь надеяться, что в ближайшее время никому из тех, кого я люблю или просто знаю, не придется - по необходимости или по легкомыслию - лететь на рейсовом самолете, а если все-таки придется, то я знать об этом не хочу, как предпочла бы не знать, когда ты завтра собираешься быть у меня, ведь поневоле начну высчитывать, когда ты выедешь, а после целый час будешь колесить на машине по не то чтобы перегруженным, но определенно не вполне безопасным дорогам. Точно так же (это я теперь тоже знаю) мне бы не хотелось сейчас услышать, что у меня рак. Надо взять на заметку, что человеку, только-только прооперированному и еще очень слабому, нельзя говорить, что у него рак, - каковы бы ни были прежние уверения. Иными словами, есть обстоятельства, в которых честность, правда действуют губительно.