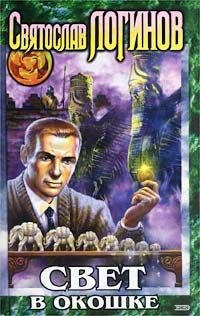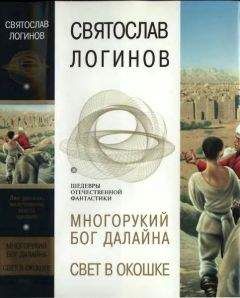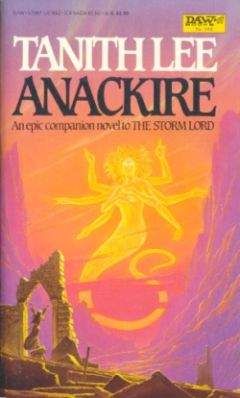Ирвин Шоу - Зеленая Ню
Баранов почел за счастье следовать этим простым и полезным для здоровья рекомендациям. Если не считать легкого размыва контура, тончайшего тумана, словно поднимавшегося из подсознательной нерешительности художника, не позволяющей раз и навсегда определиться с любым, самым простым вопросом, вроде местоположения лимона на скатерти, его работы во многом напоминали те полотна, которые он рисовал, вернувшись с полей революционных сражений. Баранов процветал. Вновь появившиеся щечки порозовели, он даже отрастил небольшой животик. На лето снимал маленький домик в Баварии, арендовал прекрасную мастерскую неподалеку от Тиргартена. Раскусил прелесть подвальчиков и мюнхенского пива, а когда разговор переходил на политику, что в те дни случалось более чем часто, добродушно отшучивался: "Да кто тут что может знать? Это для философов".
Когда Суварнин (из-за первого, неопубликованного варианта рецензии он впал в немилость властей и вскоре ему перекрыли доступ на страницы прессы) появился в Берлине, сирый и убогий, Баранов пригрел его и поселил в пустующей комнате под мастерской. И даже смог выдавить из себя смешок, узнав от Суварнина, что его зеленая ню заняла самое почетное место в новом музее декадентского искусства в Ленинграде.
Алла нашла себе место инструктора физкультуры в одной из новых организаций для молодых женщин, которые тогда множились, как грибы после дождя. Атлетичность ее программ не осталась незамеченной. Из зала Аллы выходили батальоны крепких женщин с мощными бедрами, которые могли совершать восемнадцатичасовые броски по пашне и обезоруживать сильных мужчин, вооруженных винтовками и штыками. Когда Гитлер пришел к власти, Аллу пригласили в государственные структуры и отдали под ее начало программы физической подготовки женщин в Пруссии и Саксонии. И лишь гораздо позже бюро статистики Национально-патриотического фронта женщин-матерей опубликовало отчет, в котором указывалось, что по числу выкидышей и смертей первенца выпускницы классов Аллы превосходили любую другую группу женщин в соотношении семь к одному. Но, разумеется, к тому времени Барановы уже покинули страну.
Между 1933 и 1937 годами жизнь Барановых очень напоминала их лучшие дни в Москве. Баранов неустанно рисовал, и его зрелые фрукты украсили многие знаменитые стены, в том числе, по слухам, бункера фюрера под Канцелярией, в немалой степени скрасив аскетичность обстановки. Будучи желанными гостями, в силу значимости поста, который занимала Алла, и добродушного юмора Баранова, они кочевали с одного приема на другой, где Алла, как обычно, монополизировала разговор, показывая себя крупным специалистом по таким вопросам, как военные тактика и стратегия, производство стали, дипломатия и воспитание подрастающего поколения.
Друзья потом вспоминали, что именно в этот период в Баранове прибавилось молчаливости. На приемах и вечеринках он обычно стоял рядом с Аллой, слушал, ел виноград и жевал миндаль, частенько отвечал невпопад и исключительно односложно. Он похудел, а по взгляду чувствовалось, что спит он плохо и его мучают кошмары. Он начал рисовать по ночам, запирая дверь в мастерскую, плотно задернув шторы, при свете настольной лампы, привезенной из России.
Так что зеленая ню стала полным сюрпризом и для Аллы, и для друзей Баранова. Суварнин, который видел и оригинал, и берлинское полотно, заявил, что в целом второй вариант получился даже лучше первого, хотя главная фигура, во всяком случае, концептуально, вышла один в один. "Душевная боль, - говорил Суварнин, который в то время состоял на государственной службе в качестве разъездного критика по архитектуре, резонно рассудив, что в этой сфере человеческой деятельности ошибки с суждении не могут привести к столь катастрофическим последствиям, как в живописи, - душевная боль, которой пронизана картина, кажется непереносимой. Человеку ее уже не выдержать. Она по плечу герою, великану, богу. Баранов заглянул в подсознательные погреба отчаяния. Возможно, из-за того, что я знал о кошмарных снах Баранова, особенно, том, где Баранов не мог произнести ни слова в комнате, полной говорящих женщин, у меня возникло столь сильное ощущение, что зеленая женщина - само человечество, запертое в немоте, протестующее, без слов и без надежды, против трагических трудностей жизни. Особенно мне понравилась милая, маленькая деталь: голый карлик-гермафродит, выписанный розовым в левом нижнем квадрате, которого обнюхивают маленькие темно-коричневые зверьки".
Сомнительно, чтобы Баранов даже думал о том, чтобы показать картину общественности (необходимость в воссоздании шедевра исчезла с завершением работы над ним, а воспоминания о том, что произошло в Москве, были еще слишком свежи, чтобы решиться на повторение случившегося в Берлине). Но дальнейшую судьбу Баранова определил уже не он сам, а гестапо. По заведенному порядку агенты тайной полиции еженедельно обыскивали дома и служебные помещения всех, кто читал зарубежные газеты (от этой вредной привычки Баранов так и не смог отказаться), и наткнулись на зеленую ню в тот самый день, когда художник последний раз прикоснулся к ней кистью. Оба агента были простыми немецкими парнями, но достаточно хорошо разбирались в азах национал-социалистической культуры, чтобы понять, прочувствовать предательство и ересь. Вызвав подкрепление и оцепив здание, они позвонили шефу отдела, ведающего подобными вопросами. Часом позже Баранова арестовали, а Аллу сняли с работы и отправили помощником диетолога в приют для матерей, родивших вне брака, у польской границы. Как и в Москве, ни один человек, даже бравый полковник бронетанковой дивизии СС, с которым Аллу связывали интимные отношения, не решился указать ей, что в поисках модели Баранову не пришлось выходить из дома.
В гестапо его допрашивали месяц. За это время Баранов лишился трех передних зубов, его дважды приговаривали к смерти, а на допросах требовали назвать заговорщиков и сообщников и признаться в диверсиях, совершенных в последние месяцы на соседних авиационных заводах. Пока Баранов находился в гестапо, его картина участвовала в большой выставке, устроенной министерством пропаганды с тем, чтобы познакомить широкую общественность с новейшими тенденциями в декадентском и антигерманском искусстве. Выставка пользовалась огромным успехом и стала рекордной по посещаемости.
В день освобождения Баранова из гестапо (он еще больше похудел, заметно ссутулился и мог есть только мягкую пищу) ведущий критик берлинской "Тагеблатт" вынес официальную оценку картине. Баранов купил газету и прочел следующее: "Это иудо-анархизм на пике своей наглости. Подстрекаемый Римом (на заднем плане в берлинском варианте добавились развалины церкви), с благословения Уолл-стрита и Голливуда, следуя приказам Москвы, этот варварский червь Баранов, урожденный Голдфарб, заполз в сердце немецкой культуры в попытке дискредитировать моральное здоровье нации и опозорить институты охраны правопорядка. Это пацифистская атака на нашу армию, наш флот, нашу авиацию, злобная восточная клевета на наших прекрасных женщин, праздник похотливой, так называемой, психологии венского гетто, зловонные пары парижской клоаки, набитой французскими дегенератами, жалкий аргумент английского министерства иностранных дел в защиту кровожадного империализма. Со свойственным нам достоинством мы, немцы немецкого мира культуры, мы, носители гордой и святой немецкой души, должны сплотиться и потребовать, в уважительной форме, сдержанным тоном, удаления этого гангренозного нароста на теле нации. Хайль Гитлер!"
В ту ночь, в постели с Аллой, которой чудом удалось получить трехдневный отпуск, чтобы встретить супруга, выслушивая уже стандартную двенадцатичасовую лекцию жены, Баранов чуть ли не с нежностью вспоминал сравнительно деликатные фразы критика из "Тагеблатт".
Наутро он встретился с Суварниным. Последний отметил, что его друг, пусть месяц в гестапо дался ему нелегко, обрел внутреннее спокойствие, ибо душа его освободилась от гнетущей ноши. Несмотря на ночь словесной порки, которую он только что пережил, несмотря на тридцать дней полицейского произвола, выглядел Баранов свежим и отдохнувшим, словно отлично выспался.
- Не следовало тебе рисовать эту картину, - в голосе Суварнина слышался мягкий упрек.
- Знаю, - кивнул Баранов. - Но что я мог поделать? Все произошло помимо моей воли.
- Хочешь совет?
- Да.
- Уезжай из страны. Быстро.
Но Алла, Германия ей нравилась и она не сомневалась, что вновь пробьется наверх, отказалась. А о том, чтобы уехать без нее, Баранов и не помышлял. В последующие три месяца ему дважды досталось на улице от неких патриотично настроенных молодых людей, мужчину, который жил в трех кварталах и внешне отдаленно напоминал Баранова, пятеро парней по ошибке ногами забили до смерти, все его картины собрали и публично сожгли, уборщик обвинил Баранова в гомосексуальных наклонностях и суд, после четырехдневного процесса, вынес ему условный приговор, его арестовали и допрашивали двадцать четыре часа, после того, как поймали рядом с Канцелярией с фотокамерой, которую он нес в ломбард. Фотокамеру конфисковали. Все эти происшествия не поколебали решимости Аллы остаться в Германии, и лишь когда суд начал рассматривать иск о стерилизации Баранова для исключения угрозы чистоте немецкой крови, она, в снежный буран, пересекла с ним границу Швейцарии.