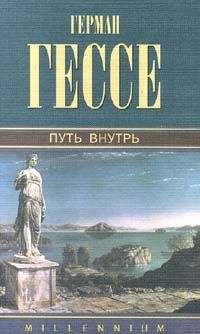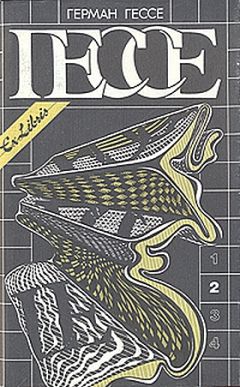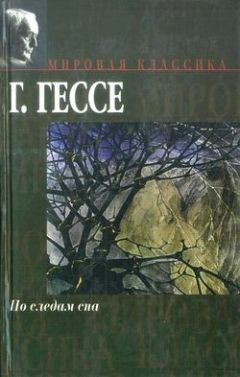Герман Гессе - Краткое жизнеописание
В моих книгах зачастую не обнаруживается общепринятого респекта перед действительностью, а когда я занимаюсь живописью, у деревьев есть лица, домики смеются, или пляшут, или плачут, но вот какое дерево - груша, а какое - каштан, не часто удается распознать. Этот упрек я принимаю. Должен сознаться, что и собственная моя жизнь весьма часто предстает предо мною точь-в-точь как сказка, по временам я вижу и ощущаю внешний мир в таком согласии, в таком созвучии с моей душой, которое могу назвать только магическим.
Иногда мне все еще случалось не удержаться от дурачеств, например, я сделал некое безобидное замечание об известном поэте Шиллере, за которое все южногерманские клубы игроков в кегли незамедлительно объявили меня осквернителем отечественных святынь. Однако теперь мне удается уже в течение многолетнего срока не делать никаких высказываний, от которых святыни оказываются осквернены и люди краснеют от бешенства. Я усматриваю в этом прогресс.
Поскольку, согласно вышесказанному, так называемая действительность не имеет для меня особенно большого значения, поскольку прошедшее часто предстает передо мной живым, словно настоящее, а настоящее отходит в бесконечную даль, постольку я равным образом не могу отделить будущего от прошедшего так отчетливо, как это обычно делается. Очень важной частью существа моего я живу в будущем, а потому не имею надобности кончать мое жизнеописание сегодняшним днем, но волен преспокойно позволить ему продолжаться далее.
Я хочу вкратце рассказать, как жизнь моя завершает свое круговращение. Вплоть до 1930 года я еще написал несколько книг, чтобы затем навсегда отвернуться от этого ремесла. Вопрос, должен ли я быть причислен к поэтам в истинном значении этого слова, составил для двух молодых трудолюбцев тему их диссертаций, однако остался нерешенным. А именно, тщательный анализ новейшей литературы заставил констатировать, что субстанция, делающая поэта поэтом, появляется ныне только в чрезвычайно разбавленном виде, так что различие между поэтом и литератором уже не может быть уловлено. Из этой объективной констатации оба соискателя ученой степени сделали противоположные выводы. Один из них, более симпатичный молодой человек, держался мнения, что столь комически разбавленная поэзия вовсе перестает быть поэзией, и коль скоро просто литература не имеет права на жизнь, остается предоставить то, что сегодня называется творчеством, его тихой кончине. Однако другой был безоговорочным почитателем поэзии, будь то даже в ее разбавленном состоянии, а потому полагал, что лучше из осторожности признать сотню поддельных поэтов, чем нанести обиду хоть одному, в ком, может статься, все еще есть хоть капля подлинной парнасской крови.
Занят я был предпочтительно живописью и китайскими магическими упражнениями, однако год от года все более и более обращался к области музыки. Честолюбие моих поздних лет сосредоточилось на том, чтобы написать оперу особого рода, где человеческая жизнь в качестве так, называемой действительности не слишком принималась бы всерьез и даже служила предметом осмеяния, но в то же время сияла бы как подобие, как текучее одеяние божества. Магическое восприятие жизни всегда было для меня близким, я никогда не был "современным человеком" и неизменно почитал "Золотой горшок" Гофмана или даже "Генриха фон Офтердингена" за учебники более полезные, нежели все на свете изложения мировой и естественной истории (вернее же сказать, я и в последних, буде читал их, всегда усматривал восхитительные баснословия). Теперь же для меня начался тот жизненный период, когда больше не имеет смысла и далее строить и дифференцировать свою готовую и сверх нужды дифференцированную личность, когда вместо этого является новая задача - дать пресловутому "я" снова прейти в мировом целом и пред лицом бренности включить себя в вечный и вневременной распорядок.
Выразить эти мысли или настроения казалось мне возможным при посредстве сказки, причем высшую форму сказки я усматривал в опере, - потому, надо полагать, что магии слова в пределах нашего оскверненного и умирающего языка я уже не доверял, между тем как музыка все еще представлялась мне живым древом, на ветвях которого и сегодня могут произрастать райские плоды. Мне хотелось осуществить в моей опере то, чего мне никак не удавалось сделать в литературных моих сочинениях: дать человеческой жизни смысл, высокий и упоительный. Мне хотелось восхвалить невинность и неисчерпаемость природы и представить ее путь до того места, где она оказывается принуждена неизбежным страданием обратиться к духу, этой своей далекой противоположности, и это кружение жизни между обоими полюсами - природой и духом - должно было предстать веселым, играющим и совершенным, как раскинутая радуга.
К сожалению, однако, завершить эту оперу мне так и не было дано. С ней дело шло точно так, как прежде с писательством. Я принужден был отказаться от писательства, когда усмотрел, что все, что мне было так важно сказать, уже было сказано в "Золотом горшке" и в "Генрихе фон Офтердингене" в тысячу раз чище, чем смог бы я. То же самое случилось и с моей оперой. Стоило мне окончить многолетние приготовления и набросать текст в нескольких вариантах, после чего еще раз попытаться возможно отчетливее уяснить себе суть и смысл моей работы, как я внезапно понял, что стремился с моей оперой ни к чему иному, как к тому, что давно уже наилучшим образом осуществлено в "Волшебной флейте".
С тех пор я бросил означенные труды и теперь уже всецело посвятил себя практической магии. Пусть моя мечта о творчестве оказалась бредом, пусть я не могу создать ни "Золотого горшка", ни "Волшебной флейты", что ж, я все-таки родился волшебником. Я достаточно продвинулся по восточному пути Лао-цзы и И-цзиня, чтобы ясно распознать случайный, а потому податливый характер так называемой действительности. Теперь, стало быть, я приспосабливал эту действительность средствами магии к моему норову, и я должен сознаться, что получил от этого немало удовольствия. Мне приходится, однако, сделать еще одно признание: я не всегда ограничивал себя пределами того сладостного сада, который зовется белой магией, нет, живой огонек во мне от времени до времени манил меня и на черную ее сторону.
В возрасте свыше семидесяти лет, когда два университета только что удостоили меня почетной докторской степени, я был привлечен к суду за совращение некоей молодой девицы при помощи колдовства. В тюрьме я испросил разрешения заниматься живописью. Оно было мне предоставлено. Друзья принесли мне краски и мольберт, и я написал на стене моей камеры маленький пейзаж. Еще раз, стало быть, вернулся я к искусству, и все разочарования, которые я уже испытал на пути художника, нимало не могли помешать мне еще раз испить этот прекраснейший из кубков, еще раз, словно играющее дитя, выстроить перед собой малый и милый мир игры, насыщая этим свое сердце, еще раз отбросить прочь всяческую мудрость и отвлеченность, чтобы отыскивать первозданное веселье зачатий. Итак, я снова писал, снова смешивал краски и окунал кисти, еще раз с восторгом искушал это неисчерпаемое волшебство - звонкое и бодрое звучание киновари, полновесное и чистое звучание желтой краски, глубокое и умиляющее пение синей и всю музыку их смешений, вплоть до самого далекого и бледного пепельного цвета. Блаженно и ребячливо играл я в сотворение мира и таким образом написал, как сказано, пейзаж на стене камеры. Пейзаж этот содержал почти все, что нравилось мне в жизни, - реки и горы, море и облака, крестьян, занятых сбором урожая, и еще множество чудесных вещей, которыми я услаждался. Но в самой середине пейзажа двигался совсем маленький поезд. Он ехал к горе и уже входил головой в гору, как червяк в яблоко, паровоз уже въехал в маленький туннель, из темного и круглого входа в который клубами вырывался дым.
Никогда еще игра не восхищала меня так, как на этот раз. Я позабыл за этим возвратом к искусству не только то обстоятельство, что я был под арестом, под судом, и едва, ли мог надеяться окончить свою жизнь вне исправительного заведения, - мало того, я часто забывал упражняться в магии, находя самого себя достаточно сильным волшебником, когда под моей тонкой кистью возникало какое-нибудь крохотное деревце, какое-нибудь маленькое светлое облачко.
Между тем так называемая действительность, с которой я на деле окончательно порвал, прилагала все усилия, чтобы глумиться над моей мечтой и разрушать ее снова и снова. Почти каждый день меня забирали, препровождали под стражей в чрезвычайно несимпатичные апартаменты, где посреди множества бумаг восседали несимпатичные люди, которые допрашивали меня, не желали мне верить, старались меня ошарашить, обращались со мной то как с трехлетним ребенком, то как с отпетым преступником. Нет нужды побывать под судом, чтобы свести знакомство с этим поразительным и поистине инфернальным миром канцелярий, справок и протоколов. Из всех преисподних, которые человек странным образом обречен для себя создавать, эта всегда представлялась мне наиболее зловещей. Пожелай только сменить местожительство или вступить в брак, возымей нужду в визе или паспорте, и ты уже ввержен в эту преисподнюю, ты принужден проводить безрадостные часы в безвоздушном пространстве этого бумажного мира, тебя допрашивают и обдают презрением скучающие и все-таки торопливые, унылые люди, твои простейшие и правдивейшие заверения не встречают ничего, кроме недоверия, с тобой обращаются то как со школьником, то как с преступником. Что тут говорить, это всякий знает по собственному опыту. Давно уже я задохнулся бы и окоченел в этом бумажном аду, если бы мои краски не дарили мне снова и снова утешения и удовольствия, если бы моя картина, мой чудесный маленький пейзаж не возвращал мне воздух и жизнь.