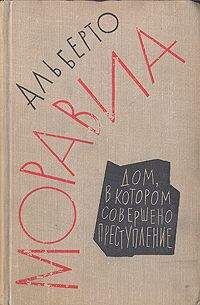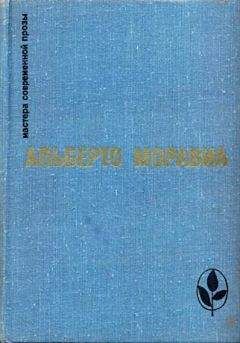Альберто Моравиа - Дом, в котором совершено преступление (Рассказы)
Элена - так ее звали - была лет на шесть или на семь моложе мужа и вступила в ту пору жизни, когда у женщины начинается вторая молодость, еще более сладостная и любвеобильная, чем первая. Она была высокая, крупная, с пышными, хотя уже несколько увядшими формами, и в ее серьезном и холодном лице нежность черт была как бы скована упрямой строгостью. Но ее гордая осанка, ослепительная белизна кожи, чистый и гордый свет, которым лучились глаза, и высокий безмятежный лоб сразу поразили Туллио своей красотой. Он словно был ослеплен, и все то недолгое время, пока супруги пробыли в конторе и Де Гасперис объяснял существо дела, Туллио не сводил взгляда с его жены. Она сидела, опустив голову, с серьезным видом, и ни разу даже не подняла глаза на Туллио.
Когда Де Гасперисы ушли, в конторе остался острый аромат, в котором, казалось, смешался запах давно сорванных и измятых цветов и замерзших паров эфира. Этот аромат и воспоминание о милом и серьезном лице, упорно склоненном вниз, привели Туллио в мечтательное и задумчивое настроение. До самого вечера он не мог работать. Наконец, вернувшись домой, он после долгих колебаний решился позвонить своему клиенту под каким-то благовидным предлогом. Тот, словно угадав его желание, без церемоний пригласил его к себе. С этого и началась его дружба с Де Гасперисами или, вернее, его любовь к Элене.
Де Гасперисы жили на далекой окраине, в своего рода павильоне, окруженном густым и запущенным садом. Павильон, который раньше, видимо, служил студией художнику, был мрачный, просторный и казался временным жильем. Здесь была только одна большая комната, куда через окно с мутными стеклами проникал хмурый и скупой свет. Днем комната бывала погружена в холодный полумрак, который словно покрывал все слоем серой пыли; вечером при свете нескольких ламп темнота пряталась по углам и вверху, среди косых балок потолка. Де Гасперисы завесили стены тяжелой серой материей, которая спускалась от середины стен до самого пола, - она не была прибита внизу и натянута, а спадала свободно, широкими, отбрасывавшими тень складками, словно кулисы в театре, и казалось, что там, за нею, не стены, а пустота. Комната была обставлена красивой старинной мебелью, которая давала основание думать, что супруги знали лучшие времена. Но теперь они, видимо, бились в нужде, прислуги у них не было, им приходилось самим готовить, и за ширмой была небольшая плита, несколько тарелок и сковородок; он неизменно носил все тот же светлый костюм, а у нее было всего два платья: одно - черное с глубоким вырезом, другое - коричневое шерстяное. Несмотря на это, они каждый вечер принимали гостей, или, вернее, муж каждый вечер играл в карты с тремя своими приятелями и приглашал еще Туллио, чтобы жене не было скучно.
Вечера эти были тихие, овеянные грустью, которую как бы источали широкие складки занавесей, где печально таилась темнота, и казалось, занавеси эти всегда слегка колыхались от движении хозяев дома, создавая странное и неприятное впечатление. У окошка, за столиком, покрытым зеленой скатертью, сидели Де Гасперис и его трое приятелей: Варини - худощавый блондин в сером костюме, с длинным бледным лицом и маленькими голубыми, как барвинок, глазами; сорокалетний Пароди - коренастый, белокурый, живой, пышущий здоровьем и грубым весельем, и, наконец, Локашо - маленький, похожий на расстриженного священника, черный как смоль, небрежно одетый, со смуглым, напоминавшим баранью морду лицом и редкими встрепанными волосами, которые пучками росли на его грязной лысине. Эти люди, такие непохожие друг на друга, играли в мрачном молчании; было ясно, что их ничто не объединяет, кроме карт, которыми они часами шлепали по зеленой скатерти; мало того, в их напряженных и сосредоточенных лицах было холодное упорство, жадное и подозрительное опасение, так противоречившее интимной семейной обстановке, которую Де Гасперисы, и особенно жена, старались создать на своих вечерах. Их лица, слова, жесты никак не вязались с этой обстановкой, они скорей подходили для игорного дома, и этого не могла смягчить светская церемонность, которую Де Гасперис еще сохранял, несмотря на свою бесшабашность. С его женой все, приходя, здоровались преувеличенно почтительно, то ли потому, что чувствовали в ней какую-то враждебность, то ли потому, что ее красота заставляла их робеть. Но сев за карты, они сразу словно забывали о ее существовании. И только между двумя партиями бросали украдкой через плечо взгляды в сторону камина, где она сидела, разговаривая с Туллио.
Да, это были вечера, полные неловкости и печали. Но для Туллио в них было нечто необычайно привлекательное, подобное горькому очарованию единственной подлинно прекрасной и грустной музыкальной ноты, которая настойчиво повторяется в хаосе бессвязных звуков, - присутствие Элены. В этой убогой обстановке, среди этих людей она была особенно хороша, она казалась жертвой и вместе с тем главной причиной разорения семьи и этих странных отношений. И кроме того, она, видимо, постоянно занимала мысли всех четверых мужчин. Туллио смутно это чувствовал, хотя ни их, ни ее поведение не давало для этого никаких оснований. Но, без сомнения, она вела бы себя точно так же, если бы вместо денег эти четверо мужчин каждый вечер ставили на кон ее душу и тело. Зная это, она безропотно и печально ждала бы у камина воли победителя.
Но все это были лишь домыслы. Наверняка Туллио знал только одно - что он очарован этой женщиной, восхищен ею. И каждый вечер для него был как сказка. Обычно говорил почти все время он; женщина то ли из робости, то ли из сдержанности молча слушала. Он говорил о всякой всячине и был счастлив этой возможностью после стольких лет молчания, жалких расчетов и мелочного благоразумия. Но темы этих разговоров всегда были общие и далекие от всякой интимности. Он говорил о книгах, спектаклях, идеях, людях, обо всем, что приходило в голову, никогда не выходя за рамки светской беседы, и только необычайный жар, с которым он разговаривал, мог бы выдать внимательному наблюдателю переполнявшее его чувство. Крайняя сдержанность женщины не давала ему высказать то, что было у него на душе. И хотя каждое утро он решал про себя быть откровеннее и объясниться в любви, вечером он, сидя перед Де Гасперис, чувствовал, как его опять сковывает робость, и помимо воли снова заводил те же общие разговоры, что и накануне.
Все это было для него тем затруднительней, что, кроме сдержанности и молчаливости, у этой женщины была еще одна особенность. Она была не только холодна и неразговорчива, но к тому же постоянно испытывала мучительное чувство стыда. Туллио, не сводившему с нее глаз, казалось, что она все время стыдится, и не чего-нибудь определенного, а всего вообще, стыдится с давних пор. Стыдится мужа, пьяницы и картежника, троих его приятелей, своего более чем скромного платья, дешевых сигарет, которыми она угощала Туллио, жалкого убожества своего жилища и сотни других вещей. Видимо, душа у нее была нежная и чувствительная, как кожа у некоторых рыжеволосых людей, которая от солнца краснеет и трескается, но никогда не грубеет. Должно быть, она стыдилась то одного, то другого всю свою жизнь. Словно целый мир был создан лишь для того, чтобы оскорблять и унижать ее. Но теперь, в нужде, замужем за таким человекем, она дошла до крайности: стыд жег ее постоянно, и не было никакой надежды на облегчение.
Ее стыдливость прежде всего проявлялась в том, что она удивительно легко краснела. Довольно было Туллио сделать какой-нибудь щекотливый намек или задать чуть нескромный вопрос, как кровь заливала ей шею и лицо, обычно бледное и холодное, и, вся вспыхнув, она немела. Вид у нее при этом был до того страдальческий, что, казалось, она краснела не только внешне, помимо воли, но и, так сказать, внутренне, сознательно. Особенно явно ее чувствительность проявлялась в отношении к мужу и его приятелям. Было очевидно, что, несмотря на свою скромную одежду, убогое жилье и жалкий вид гостей, она твердо решилась держаться так, словно на ней великолепное бальное платье и сидит она в блестящем зале с расписным потолком и мраморным полом, а на месте этих троих игроков, одетых в коричневое и серое, три церемонных аристократа во фраках. Под этим вечным стыдом, этим возвышенным чувством собственного достоинства она ревниво хранила не какие-либо благородные принципы или моральные переживания, а неизменную и сияющую, как мираж, мечту о блестящем обществе, к которому - таково было ее непоколебимое убеждение - она принадлежала по рождению и призванию и которое среди всех унижений и бедности маячило перед ней как цель, быть может, недостижимая, но, без сомнения, достойная любых усилий и любой жертвы. Она мечтала о красивых туалетах, драгоценностях, автомобиле, ее интересовало лишь мнение света, ее сдержанность и стыдливость были вызваны отсутствием элегантности и роскоши. Впрочем, достаточно было посмотреть, как она встречала троих приятелей мужа, величественная, гордая, нарочито медлительная и сдержанная в движениях, как она томно и снисходительно протягивала Туллио и всем остальным красивую округлую руку, чтобы понять, каким совершенным образцам следует она в своем поведении. И как должна она страдать и стыдиться, видя, что эти ее благородные манеры некому оценить по достоинству, что их воспринимают с безразличием, небрежностью или еще хуже - с легкой насмешкой. Но больше всего она, вероятно, стыдилась, когда игроки оставляли карты, Туллио умолкал и все собирались посреди комнаты вокруг стола, на котором стоял поднос с несколькими бутылками и ведерко со льдом - единственная роскошь, которую здесь могли себе позволить. Ясно было, что эти минуты для нее священны; эти бутылки, бокалы, кусочки льда блестели перед ее взглядом, как язычки восковых свечей на алтаре; легкий звон хрусталя и бульканье вызывали у нее тот же почти мистический трепет, что у набожного человека звяканье чаш и шелест священных облачений. Но подходить к этому столу, смешивать коктейли, предлагать напитки, любезно разговаривать с этими тремя игроками, у которых лица еще бледны и искажены азартом, а в глазах горит алчный огонь, было для нее поистине нестерпимым унижением или еще хуже кощунством. И все же мужественно, с бестрепетным достоинством принимала она каждый вечер это неприятное общество. Держа в одной руке бокал и положив другую на бедро, она разговаривала с тремя игроками и мужем, улыбаясь, тщетно расточая кокетливые и лукавые взгляды, поддерживая беседу. Из троих приятелей ее мужа Варини был наименее груб. Но он был зато азартнее всех и, напуская на себя холодный, пренебрежительный, скучающий вид, не скрывал своего безразличия к разговорам, которые велись вокруг подноса с напитками; и словно жилище Де Гасперисов в самом деле было лишь игорным домом, ему, видимо, очень хотелось поскорее вернуться к картам. Впрочем, ему почти всегда не везло, он много проигрывал и от этого бывал рассеян и неприятно мрачен. Де Гасперис тоже проигрывал, но старался одолеть свое невезение, как, вероятно, и пристрастие к спиртному, - молча, с холодным упорством человека себе на уме. Выигрывали остальные двое - Пароди и Локашо. При этом они так радовались, что раздражали не только жену Де Гаспериса, но и Туллио. Пароди громко разговаривал, смеялся, похлопывал по плечу своих партнеров и даже пел; на Локашо же выигрыши оказывали несколько иное действие: сначала он держался робко и церемонно, но потом, разойдясь, пускался в откровенности, в которых провинциальная наивность смешивалась с грубой хитростью и жадностью неотесанного горожанина. Ему не верилось, что он удостоился играть с Варини и другими двумя, что его угощает такая красивая и тонкая женщина, как Де Гасперис; он был на верху блаженства; иногда он доходил до того, что, разговаривая, засовывал большие пальцы под мышки. Один раз он даже вынул из кармана пачку семейных фотографий и стал их показывать: мать, сестры, племянники. В некотором отношении он был все же приятнее Пароди; тот считал себя человеком воспитанным и светским, а на деле смахивал на разъезжего торговца или цирюльника. Локашо же был человек без претензий; с мрачной скромностью он признавал, что он прост и невежествен, и верил только в деньги, приобретенные тяжким трудом. Но под этим упрямым смирением скрывалось не меньшее тщеславие, чем у Пароди. Варини не скрывал своего презрения ни к Пароди, ни к Локашо. Он разговаривал с ними редко и всегда с оттенком легкой и мрачноватой насмешки. Напротив, Де Гасперис, совершенно непроницаемый, не обнаруживал никаких чувств, лишь отпускал короткие реплики или хмыкал, слушая своих приятелей молча и рассеянно. А ведь скорее он, а не Варини должен был с презрением и негодованием относиться к двум остальным, потому что они никогда не упускали случая приволокнуться за его женой. Ухаживания Пароди, очевидно, раздражали женщину больше всего. С веселым нахальством он брал ее за руку и что-то нашептывал ей на ухо; все его разговоры были пестрым набором избитых любезностей, двусмысленностей, неприличных намеков; всякий раз, когда он смотрел на эту красивую женщину, взгляд у него становился тяжелым и грубым, словно он касался ее руками. Локашо, то ли мало изощренный в светских делах, то ли из робости, ограничивался тем, что при всяком удобном случае старался подойти к ней поближе, словно для того, чтобы вдохнуть ее аромат. Он, казалось, восхищался болтовней Пароди и смотрел на него не без зависти и досады. Но неспособный противостоять этому каскаду острот и пошлостей, он тупо и упрямо хвастался своей карьерой и деньгами, и ясно было, что весь этот поединок происходит из-за жены Де Гаспериса. Трудно было представить себе положение более неприятное для нее, чем то, когда рядом с ней были эти двое: один - со своими далеко не безобидными шуточками, другой - с грубыми деревенскими уловками. В их обществе ее еще больше обычного терзал все тот же вечный стыд.