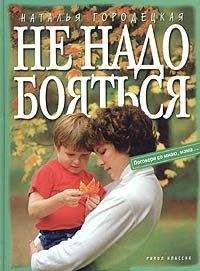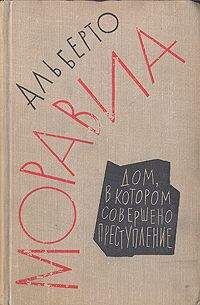Альберто Моравиа - Римские рассказы
- До свиданья, синьор начальник!
И вдруг я прикусил язык, потому что понял, что это "до свиданья" совершенно не подходит к случаю: можно подумать, что я хочу вернуться в тюрьму или даже уверен, что вернусь. Начальник, добрый человек, улыбнулся и поправил меня:
- Ты хочешь сказать - "прощайте". И я повторил:
- Да, прощайте, синьор начальник.
Но было уже поздно и ничего нельзя было поделать: слово не птица, выпустишь - не поймаешь.
Это "до свиданья" не переставая звенело у меня в ушах во время всего пути и даже потом, когда я очутился дома, в Риме. Возможно, виною тут был прием, который мне оказали родные: мама, понятно, встретила меня радостно, но зато другие даже хуже, чем я ожидал. Брат, сопляк безмозглый, торопился на футбол и сказал только:
- А, Родольфо, здорово!
А сестра, эта расфуфыренная обезьяна, так та просто убежала из комнаты, крича, что если я останусь жить с ними, она уйдет из дому. Что же касается отца, который вообще не любит много разговаривать, то он ограничился тем, что напомнил мне: мое место в столярной мастерской не занято, если я хочу, то могу начать работать хоть сегодня. Наконец все ушли и дома остались только мы с мамой. Она хлопотала на кухне - мыла посуду после обеда. Стоя возле раковины, такая маленькая в своем поношенном платье, с растрепавшимися седоватыми волосами, в огромных войлочных шлепанцах на больных ногах, она тут же, не переставая полоскать тарелки, начала длинную проповедь, которая, хоть и произносилась из самых лучших побуждений, для меня, по правде сказать, была хуже, чем визгливые выкрики сестры или равнодушие отца и брата. Что она мне говорила? Да то же самое, что говорят обычно в таких случаях все матери, не принимая, однако, в расчет, что в моем-то случае правда - на моей стороне, и я ранил человека, защищаясь, и доказал бы это на процессе, если б не ложное показание Гульельмо.
- Вот видишь, сынок, к чему привела тебя твоя гордыня. Послушайся мать, ведь я одна тебя люблю и жалею, ведь я, пока тебя не было, больше слез пролила, чем святая Мария, когда ее сына распяли... Послушайся мать: смири свою гордыню, никогда не совершай насилия, лучше сто раз стерпеть обиду, чем один раз обидеть. Разве не знаешь, как пословица учит: не рой другому яму, сам в нее попадешь. Если даже ты и прав, гордыня сделает тебя виноватым... Над Иисусом Христом ведь тоже свершили насилие, распяли на кресте, а он простил всем своим врагам... Да ты что же, хочешь умнее Иисуса Христа быть?
И дальше все в том же роде. Что я мог ей ответить? Что все это неправда, что я сам стал жертвой насилия, что во всем виноват этот негодяй Гульельмо, что на каторге место не мне, а совсем другому? Я решил, что лучше встать и уйти.
Я мог бы отправиться в столярную мастерскую на виа Сан-Теодоро, где ждали меня отец и другие рабочие. Но мне вовсе не улыбалось в первый же день своего возвращения, словно ничего не произошло, вешать куртку на гвоздь и надевать комбинезон, вымазанный клеем и маслом два года тому назад. Мне хотелось насладиться свободой, поглядеть на город, поразмыслить о своих делах. Поэтому я решил, что сегодня целый день буду гулять, а уж завтра с утра пойду на работу. Мы жили недалеко от виа Джулиа. Я вышел из дому и направился к мосту Гарибальди.
В тюрьме я думал, что когда я снова буду на свободе и вернусь в Рим, все представится мне, по крайней мере в первые дни, совсем в другом свете; что на сердце у меня будет радостно и оттого все мне покажется ярким, веселым, прекрасным, заманчивым. Так вот, ничего этого не случилось: словно я не просидел столько времени в тюрьме Портолонгоне, а, к примеру, провел несколько дней на водах в Ладисполи. Был обычный серый римский день, и дул сирокко; небо, как грязная тряпка, тяжело висело над городом, воздух был сухой и горячий, и даже каменные стены домов казались раскаленными. Я шел и шел, и видел, что все осталось таким же, как прежде, как всегда, - ничего нового, ничего радостного: кошки на углу переулка возле свертка с объедками; мужские уборные за дощатой загородкой, обсаженные чахлыми кустиками; надписи на стенах с обычным "ура" и "долой"; женщины, усевшиеся посплетничать у дверей лавок; церкви с каким-нибудь слепым или калекой, примостившимся на паперти; тележки с апельсинами и винными ягодами; газетчики, продающие иллюстрированные журналы с фотографиями американских кинозвезд. И все люди казались мне какими-то неприятными, противными: один - носатый, у другого - рот кривой, у третьего - рыбьи глаза, у четвертого щеки висят, как у бульдога. Короче говоря, это был обычный Рим и обычные римляне: какими я их оставил, такими и нашел. Взойдя на мост Гарибальди, я прислонился к парапету и стал глядеть на Тибр: это был все тот же Тибр, лоснящийся, вспухший и желтый, со стоящими на приколе лодочными станциями, возле которых обычно упражняется в гребле какой-нибудь толстяк в трусиках, окруженный толпой зевак. Чтобы отделаться от всего этого, я перешел мост и пошел по Транстевере к переулку Чинкве, в знакомую остерию: хозяин ее, Джиджи, был моим единственным другом. Я сказал, что пошел туда, чтобы отделаться от всего, что видел, но, по правде говоря, меня потянуло туда еще и потому, что неподалеку от остерии находилась точильня Гульельмо. Едва я издали завидел эту точильню, как кровь ударила мне в голову, меня бросило сначала в жар, потом в холод, словно вот-вот упаду замертво.
Я вошел в остерию, которая в этот час была совсем пуста, сел в уголок в тени и тихонько позвал Джиджи, который стоял за стойкой и читал газету. Он подошел и, как только узнал меня, принялся обнимать и все повторял, что очень рад меня видеть. Это как-то подбодрило меня, потому что ведь до сих пор, кроме мамы, еще ни один смертный не встретил меня ласково. Я ни слова не мог вымолвить от волнения, на глазах у меня навернулись слезы, а он после нескольких подходящих к случаю фраз начал:
- Родольфо, кто ж это мне говорил, что ты должен вернуться? Ах да, Гульельмо.
Я ничего не ответил, но при этом имени весь задрожал. Джиджи снова заговорил:
- Уж не знаю, как он узнал об этом, но факт тот, что он пришел ко мне и сообщил... Ну и лицо у него было! Сразу видно - боится.
Я возразил, не подымая глаз:
- Боится? Чего? Разве он не правду сказал? Разве он, когда давал показания, не выполнял свой долг? И разве жандармы - плохая защита?
Джиджи похлопал меня по плечу.
- Ты все такой же, Родольфо, ни капельки не изменился... Да ведь он твоего нрава боится... Говорит, что не думал причинять тебе зла, ему, мол, велели говорить правду, он и сказал.
Я сидел молча. Подождав минуту, Джиджи продолжал:
- Если б ты знал, до чего мне тяжко видеть, что два таких человека, как ты и Гульельмо, ненавидят и боятся друг друга! Скажи, хочешь, я помирю вас, скажу ему, что ты больше не сердишься и все простил?
Я начал понимать, к чему он клонит, и ответил:
- Ничего ему, пожалуйста, не говори. Он осторожно спросил:
- Почему? Ты еще сердишься на него? Ведь прошло столько времени!..
- Что значит время? - сказал я. - Я вернулся сегодня, а мне кажется, что все это случилось вчера... Чувства не зависят от времени.
- Гони эти мысли, - настаивал Джиджи, - гони эти мысли, ты не должен думать так... Что в этом толку?.. Помнишь, как в песне поется:
Что прошло, то прошло.
А что было, то было.
Надо, чтоб сердце
О прошлом забыло.
Послушайся меня, забудь о прошлом и выпьем. Я ответил:
- Выпить - это можно. Принеси-ка мне пол-литра... сухого.
Я сказал это довольно холодно, и он, не прибавив больше ни слова, встал и пошел за вином.
Но вернувшись, он не сразу мне налил, а поставил стакан в сторонку, словно хотел раньше о чем-то уговориться, а потом уже угостить, и серьезно спросил:
- Родольфо, ты ведь не собираешься сделать какую-нибудь глупость?
Я отозвался:
- Это тебя не касается, наливай. Он настаивал:
- Да ты только подумай: Гульельмо человек бедный, у него семья - жена и четверо ребятишек... Тоже ведь понять надо.
Я повторил:
- Наливай... и не мешайся в мои дела.
Тогда он стал наливать, но тихонько так, и все глядел на меня.
Я сказал ему:
- Бери стакан... выпьем... ты мой единственный друг, у меня на свете нет другого друга.
Он сразу согласился, налил себе стакан, сел и снова заговорил:
- Вот как раз потому, что я твой друг, я хочу сказать тебе, как бы я сам поступил на твоем месте: я бы не раздумывая пошел к Гульельмо и сказал ему: "Что прошло, то прошло, обнимемся, как братья, и не будем больше об этом вспоминать".
Он поднес стакан к губам, но пить не стал, а все смотрел на меня в упор. Я ответил:
- Брат на брата - пуще супостата... Знаешь поговорку?
В эту минуту в остерию вошли какие-то двое, и Джиджи, выпив одним духом свой стакан, ушел и оставил меня одного.
Я медленно пил свои пол-литра и все раздумывал. Меня совсем не успокаивало то, что Гульельмо боится, наоборот, у меня огонь полыхал в душе, когда я думал об этом. "Боится, подлец", - думал я и с такой силой сжимал стакан из толстого стекла, словно это была шея Гульельмо. Я говорил себе, что Гульельмо настоящий подлец: мало того, что он погубил меня своими ложными показаниями, так теперь еще хочет заручиться поддержкой Джиджи, рассчитывая, что тот уговорит меня помириться с ним. Так я допил свои пол-литра и заказал еще. Джиджи принес вино и осведомился: