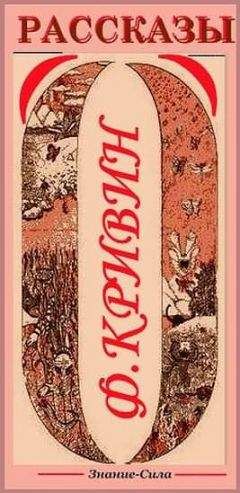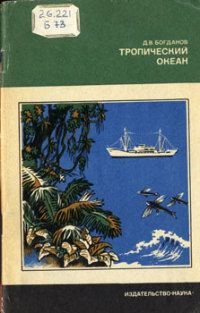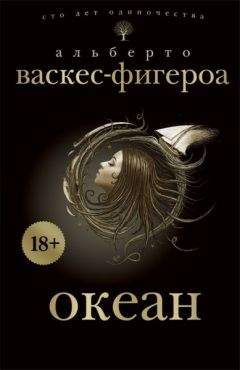Мария Романушко - В свете старого софита
Да и что, собственно говоря, случилось? Он сказал: «Мне сейчас не до этого». Всё правильно. У него – спектакль. Кстати, замечательный спектакль! Называется «Звёздный дождь». Три дня идёт в Театре эстрады. Конечно, я помчалась на премьеру. И потом, после, вызвала его к служебному входу и спросила:
– Ну, так как? Будем снимать фильм, или нет?
А он устало сказал:
– Мне сейчас как-то не до этого…
Не убил. Не предал. Не отмахнулся. Не сказал: «Вообще не буду, не хочу». Нет. Сказал откровенно: сейчас не до этого. СЕЙЧАС. Но я в этом «сейчас» услышала – НИКОГДА.
…И вот стою на мосту, на ветру… Сегодня я пришла на спектакль второй раз, но уже не ходила к служебному входу и ни о чём его не спрашивала…
…Стальные серые воды влекут, как магнит… я просто физически чувствую, как они меня к себе притягивают… ужас! ах, как было бы хорошо решиться!… я плохо плаваю, а в пальто и сапогах вообще никогда не пробовала… и ведь не в том даже дело, что он так равнодушно сказал: «Мне не до этого сейчас», а в том, что и теперь, как год тому, когда я видела его на сцене ЦДРИ, опять меня пронзило, как острой иглой, чувство расставания… утраты… близкой… неотвратимой… и не я, не я это сочиняла, тогда, стоя на мосту, у тех холодных пыльных перил, а как будто КТО-ТО нашептывал мне в сердце ледяными губами: «Тихий ужас сумерек… ставней стук… ах, ужель вы умерли, мой не друг?…»
…Не помню, как я отлепилась от этих пыльных перил, а взглядом – от стальных вод под мостом, но я всё-таки смогла (хоть и не считала это подвигом, а наоборот – малодушием), и поехала к Семененко, чтобы записать, настучать на машинке страшное стихотворение, которое разрывало меня изнутри…
…Я сидела у солнечного окошка, с карниза капало, такие жёлтые, сверкающие, янтарные капли…была весна, а я настукивала на чёрных кнопочках, холодея от ужаса, чёрные строчки:
Тихий ужас сумерек…
Ставней стук…
Пророческие стихи, готовящие меня к близкой разлуке – разлуке навсегда.
Но я не хотела (не могла!) им верить.
Кто-то из друзей мне сказал: если приснился страшный сон, надо непременно записать это на бумагу – выплеснуть из души, из сознания. Тогда это не сбудется в жизни. А останется только на бумаге. Написал – прожил – пережил – проехали – идём дальше…
Тихий ужас сумерек…
Ставней стук.
Ах, ужель Вы умерли,
Мой не друг?
Значит, впредь отныне мне
Крепко спать…
У окна унылою
Не стоять.
Не пришла покорною
Никогда.
Не оденусь в чёрное –
Не вдова.
Унесут Вас во поле,
Гордый лжец!
Хорошо ли, плохо ли, –
Но конец…
Написано более чем за год до того страшного дня. Написано в канун дня его рождения: когда думалось, хотелось думать только о хорошем… Но поэзия – этот обжигающий, пронизывающий, взрезающий пространства и время ЛУЧ – она видела дальше, глубже… Она была бесстрашна и, порой, нестерпимо горька в своих провиденьях, своих пророчествах…
Она – как идущий по проволоке над бездной – не юлила. «Да, да» – или «нет, нет».
И куда мне было деваться от этих строк? Которые пришли – и сказались. Нет, не мной! Через меня. Для меня.
И что было делать с этим ужасным знанием? С этой догадкой?…
Да, я сказала ему однажды. Не в стихах, не в своей тетрадке – а в жизни: летом семьдесят первого года, в июле, ровно за год до того, как всё это и случилось.
Я сказала: «Вы так много работаете. Не надорветёсь?…» И по той паузе, короткой – но какой-то глубинной, предшествующей его ответу, я поняла, что ему ясен смысл моего вопроса, моей тревоги. И что же?… – «Пока могу, буду работать», – было мне ответом.
Не только мне – но и себе.
А мне оставалось только одно: следовать его всегда звучащему для меня призыву…
Вызову!
* * *
…Был поздний вечер, почти ночь, и я срывала на Самотёке с круглой тумбы его афишу…
Афишу спектакля «Звёздный дождь»…
…А мимо, роняя на мокрую мостовую синие искры, проносились красные трамваи… сверкающие иглы, сшивающие времена и эпохи моей жизни…
* * *
…Неожиданно начинаю уставать – от грохота оркестра, от слепящего, режущего глаза света… Зачем, зачем так гремит оркестр? Зачем так ярко светят софиты?…
У меня начинается бессонница: оркестр круглосуточно гремит в моём мозгу… И я никакими усилиями не могу его выключить…
А как же я собираюсь работать в цирке?… Но ведь я буду работать в паузах. В тишине. И если будет звучать музыка, то тихая и нежная… Как у Моего Клоуна.
* * *
После спектакля я никогда не еду сразу домой. Я возвращаюсь домой, когда там уже все спят. Ну, мама, конечно, не спит, а только делает вид. Она говорит, что засыпает только после того, как я щёлкну замком входной двери.
Я выбираю всегда как можно более долгий путь домой, максимально удлиняя его. Максимально отдаляя приход домой.
То иду от цирка пешком до площади Коммуны, а оттуда – до метро «Новослободская».
То сворачиваю от Самотёки налево и иду по Садовому кольцу до Маяковки, а там уже вхожу в метро.
А последнее время я делаю ещё больший крюк: сначала иду бульварами – Цветным, Петровским, Страстным – на Пушкинскую площадь, где в витринах газеты «Известия» висят фотографии. И на одной из них – Мой Клоун. Помедитировав на эту фотографию, я бреду по улице Горького к метро: или – направо, к Маяковке, или – налево, на площадь Свердлова (теперь это – Театральная).
…И в этот раз, в тёмный и холодный апрельский вечер, я остановилась перед его фотографией, но радости в сердце почему-то не было, а была печаль, тоска и страх.
Мне казалось: я смотрю на его фотографию из какого-то далёкого далека… из какого-то бесконечно печального далека… где только фотография и осталась…
И вновь меня пронзили строчки, неизвестно кем нашептанные в самое сердце:
Я поживу – пока ты жив.
Я постараюсь не повеситься.
Отчаянья кривые лестницы…
Тоски пустые этажи…
Ха! дом!
Уж лучше быть бездомною
И не глядеться в гарь зеркал…
Меня б уже ты не узнал –
Все зеркала глядят иконами…
…Я шла, ничего не видя перед собой, кроме страшной пропасти, которая, казалось, разверзлась прямо у меня под ногами…
…Резкий скрип тормозов вернул меня в эту минуту. Человек что-то испуганно кричал мне в лицо…
– Очнитесь! Я чуть не сбил вас! А вы этого даже не заметили! Вы пошли прямо на красный свет, прямо мне под колёса! Да что с вами? вам плохо?…
– Плохо, – призналась я.
– Куда вы идёте?
– К метро.
– Вы так не дойдёте… Вас на следующем же перекрёстке собьют! Идёмте, я подвезу вас.
Послушно пошла за этим человеком. Села в его машину. В салоне было тепло и уютно. Я вдруг почувствовала, как я смертельно устала, как гудят мои ноги, и до чего же приятно было сидеть, не двигаться, не шевелиться… Мы поехали в сторону Манежа. И в эту минуту пошёл дождь… лёгкий, прозрачный весенний дождь сыпал сверкающие бисеринки на ветровое стекло…
– У вас что-то случилось? какое-то несчастье? – осторожно спросил он.
– Пока нет.
– Что значит «пока нет»?
– Я чувствую… чувствую, что это случится… что-то страшное…
– С вами?
– С человеком, которого я очень люблю. И я ничего не могу для него сделать…
– Я желаю, чтобы ваше страшное предчувствие не сбылось, – сказал он.
– Хорошо бы…
Мы ехали по Тверской… по мокрой сверкающей мостовой… и мне хотелось, чтобы эта дорога была длинной-предлинной… чтобы как можно дольше не выходить из тепла и не шевелиться… а только слегка покачиваться в такт качанию автомобиля… хотелось в ту минуту стать маленькой и лежать в колыбели, и уснуть под это тихое укачивание… и ничего не знать, не предчувствовать, не ведать… красные огоньки фар весело светили впереди… как огоньки новогодней ёлки в детстве… и я испытывала почти блаженство… Потом, много раз в жизни, меня будет удивлять это: в минуты горя и боли вдруг испытываешь блаженство от каких-то простых вещей: глоток чаю, тепло, чей-то мягкий, успокаивающий голос…
Он спросил, где мне удобнее выйти, я сказала, и он довёз меня до самого входа в метро «Театральная», который ближе к Красной площади. Но я ещё несколько минут сидела, глядя заворожёно на сверкающие бисеринки дождя на стекле… каждая их них была просвечена светом фонаря, под которым мы остановились… каждая бисеринка была отдельным, сверкающим, лучезарным миром… миром, где царили счастье и покой… и не было у меня сил шевельнуться, чтобы открыть дверцу и выйти… Он меня не торопил.