Артур Кестлер - Слепящая тьма
Когда дверь снова открылась, рассвет за окном еще не успел разгореться в день - он спал едва ли больше часа. Сначала ему показалось, что принесли завтрак, но у двери стоял не надзиратель, а охранник. И Рубашов понял, что его опять поведут на допрос.
Он плеснул себе в лицо холодной воды над умывальником, надел пенсне и, заложив руки за спину, двинулся впереди охранника к глеткинскому кабинету мимо одиночек, мимо общих камер и потом вниз по винтовой лестнице, ступени которой плавно поворачивали, - но он не замечал, что, спускаясь, кружит по спирали.
4
Все следующие допросы припоминались Рубашову, как один клубящийся мутный ком. Глеткин допрашивал его несколько суток подряд с двух- или трехчасовыми перерывами, но он помнил только разрозненные обрывки их разговора. Он потерял счет дням; видимо, все это продолжалось больше недели. Рубашов слышал о методе физического сокрушения обвиняемого, когда сменяющиеся следователи непрерывно пытают его изнурительным многосуточным допросом. Однако Глеткин никогда не отдыхал и сам, отняв у Рубашова пафос нравственного превосходства жертвы над истязателями.
После первых сорока восьми часов он перестал различать смену дня и ночи. Лязгала дверь, на пороге появлялся высокий охранник, и он вставал с койки, не понимая, рассвет ли сереет за мутным стеклом или угасающий зимний день. А тюремные коридоры, двери камер и ступени винтовой лестницы заливало мертвое электрическое марево. Если во время допроса серая муть за окном постепенно светлела и Глеткин в конце концов выключал лампу, значит, наступало утро. Если сумерки сгущались и лампа вспыхивала, - начинался вечер.
Когда Рубашов заявлял, что голоден, в кабинете появлялись бутерброды и чай. Но есть ему обыкновенно не хотелось; вернее, он испытывал приступы волчьего аппетита, пока еды не было, но как только ее приносили, к горлу подкатывала тошнота. Кроме того, Глеткин никогда не ел в его присутствии, и ему казалось унизительным говорить, что он проголодался. Вообще, все физические отправления становились при Глеткине унизительными, потому что сам он никогда не показывал признаков усталости, не зевал и не сутулился, не курил, не ел и не пил - официальный и подтянутый, сидел он за своим столом, а его аккуратно пригнанные ремни негромко и корректно поскрипывали. Наихудшей пыткой для Рубашова становилось желание выйти из кабинета по естественной нужде. Глеткин вызывал дежурного охранника, и тот конвоировал Рубашова в уборную. Однажды Рубашов уснул прямо на толчке, с тех пор охранник не разрешал ему закрывать дверь.
Сковывающая его апатия сменялась иногда болезненно механическим возбуждением. По-настоящему он потерял сознание только один раз, хотя все время пребывал на грани обморока; но остатки гордости помогали ему пересиливать себя. Он закуривал, на секунду поворачивал голову к слепящей лампе, и допрос продолжался.
Порой его поражала собственная выносливость. Однако он знал, что границы человеческих возможностей гораздо шире расхожего представления о них и что обычные люди просто не догадываются о своей удивительной жизнестойкости. Ему рассказывали, например, про одного обвиняемого, которому не давали спать почти двадцать дней, и он выдержал.
Подписывая протокол первого допроса, он думал, что доследование кончилось. На втором допросе ему стало ясно, что оно только начинается. В обвинении было семь пунктов, а он пока согласился лишь с одним. Ему представлялось, что он уже выпил чашу унижений до дна. Но выяснилось, что полный разгром может повторяться до бесконечности, а бессилие способно нарастать беспредельно. И Глеткин, шаг за шагом, гнал его по этому нескончаемому пути.
Конец, впрочем, всегда был рядом. Стоило ему подписать обвинение целиком или полностью отвергнуть его, и он обрел бы покой. Но странное чувство какого-то извращенного долга не позволяло ему свернуть с выбранной однажды дороги. Он шел по ней, перебарывая искушение сдаться, хотя раньше само слово "искушение" было для него пустым звуком, потому что он всю жизнь служил абсолютной идее. А сейчас это слово наполнилось конкретным смыслом, обрело форму беспрестанных унижений, гнетущую тяжесть бессонных ночей и невыносимую резкость ослепительной лампы - искушение, воплотившееся в реальность надписью на воротах кладбища для побежденных: "Спите".
Ему было очень трудно противиться этому мирному и мягкому искушению, оно опутывало туманом рассудок и сулило полнейший духовный покой. Глеткин громоздил бесчисленные логические доказательства его вины, а оно ненавязчиво, но постоянно напоминало совет записки, полученной в парикмахерской: "Умрите молча".
Иногда, охваченный апатией, Рубашов безмолвно шевелил губами. В таких случаях Глеткин прокашливался, сгонял назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем, а Рубашов начинал потирать пенсне о рукав и безвольно кивал головой, потому что уже осознал в искусителе Немого Собеседника, которого, как ему казалось, он давно уничтожил в себе и которому здесь, в этом кабинете, было решительно нечего делать.
- Значит, вы отрицаете, что вели переговоры от имени оппозиции с представителями мирового капитализма, имея целью свержение существующего руководства в стране? Вы отрицаете, что за прямую или косвенную помощь обещали пересмотреть границы, то есть отдать интервентам определенные области нашей родины?
Рубашов решительно это отрицал; но когда Глеткин повторил ему дату и напомнил обстоятельства некоей встречи, в его сознании постепенно всплыл один незначительный, забытый разговор. Утомленно и растерянно слушая Глеткина, он сразу же понял, что тому не разъяснишь безобидности мимолетной светской беседы. Дело происходило в Торговой Миссии после официального дипломатического обеда. Рубашов разговорился с бароном 3., Секретарем Посольства той самой страны, где Рубашову недавно выбили зубы, о редкой породе морских свинок - оказалось, что отцы барона и Рубашова разводили этих экзотических животных, а поэтому были, вероятно, знакомы.
- И где же теперь, - поинтересовался барон, - содержится питомник вашего отца?
- Его разорили во время Революции: морских свинок пустили на мясо.
- А из наших наделали эрзац-консервов, - меланхолично сообщил Рубашову барон. Он не скрывал брезгливого отвращения к новому режиму в своей стране и оставался дипломатом только потому, что у властителей не дошли еще до него руки.
- У меня и у вас похожие судьбы, - отхлебнув кофе, проговорил барон. Мы с вами оба пережили свое время. Теперь не поразводишь экзотических животных. Нынешний век - эпоха плебса.
- Вы забываете, господин барон, что я выступаю на стороне плебса, улыбаясь, напомнил собеседнику Рубашов.
- Я говорю не о социальной позиции, - немного помолчав, возразил барон. - Программа, выдвинутая нашим Усатиком, в принципе не вызывает у меня возражений - мне претит его пошлое плебейство. Человека можно послать на Голгофу только за то, во что он верует. - Они лениво попивали кофе, и через несколько секунд барон сказал: - Если у вас повторится Революция и вы сместите вашего Усача, постарайтесь не забыть о духовной вере или уж, по крайней мере об экзотике.
- Это у нас едва ли случится, - ответил Рубашов после паузы добавил: Но у вас, судя по вашей реплике,; все же допускают подобную возможность?
- Теперь допускают, - сказал барон. - На ваших последних судебных процессах вскрылись весьма интересные факты.
- И, видимо, у вас иногда обсуждают, какие шаги вам следует предпринять, если это невероятное событие все же случится? - спросил Рубашов.
Барон ответил быстро и точно, словно он предвидел рубашовский вопрос:
- В чужие дела мы вмешиваться не будем. Но сформированное Правительство - по его просьбе - можно поддержать... за определенную мзду.
Они уже стояли возле стола, и в руках у них были кофейные чашечки.
- Значит, если я вас правильно понял, вы обсуждали и размеры мзды? Рубашов с легким беспокойством заметил, что небрежный тон ему не удался.
- Конечно, - спокойно ответил барон и назвал богатую пшеницей область, населенную одним из национальных меньшинств...
Рубашов забыл про этот разговор и никогда осознанно о нем не вспоминал. Светская беседа за чашечкой кофе - как он мог растолковать Глеткину, что она решительно ничего не значила?
Рубашов устало смотрел на следователя, по-обычному корректного и каменно-безучастного. Он, без сомнения, не интересовался экзотикой. Не пил кофе с баронами-дипломатами. Читая, он напряженно выговаривал слова, запинался и ставил неверные ударения. Его происхождение было чисто плебейским, и читать он научился уже будучи взрослым. Нет, ему никак не объяснишь, что разговор, начавшийся с морских свинок, может закончиться бог знает чем.
- Короче, вы признаете, что этот разговор все же имел место? - спросил Глеткин.
- Он был абсолютно безобидным, - устало ответил Рубашов и сразу понял, что Глеткин оттеснил его еще на один шаг.
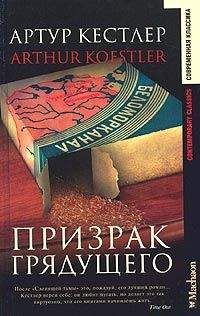
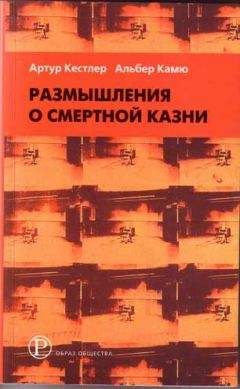
![Александр Маркьянов - Слепящая тьма [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)