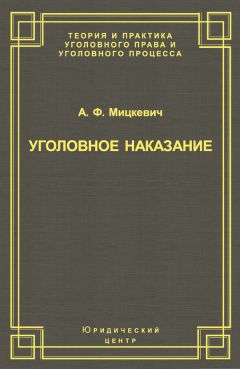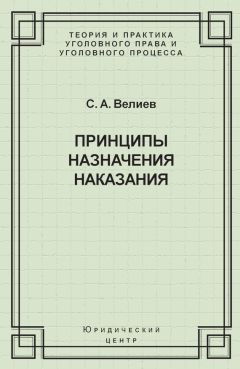Роберт Вальзер - Семейство Таннер
— Печальная история! — вздохнул его товарищ.
— Ну что ж, допьем и пойдем отсюда, — сказал рассказчик и добавил: — Иные утверждают, будто его сгубили распутные бабенки, с которыми он связался, но я не верю, по-моему, люди зачастую переоценивают дурное влияние, какое эти бабенки могут оказать на мужчину. Все это еще бы полбеды, наверно, дело-то в семье.
Симон вскочил, взволнованный, раскрасневшийся от негодования:
— Как-как? В семье? Тут вы ошибаетесь, любезный господин рассказчик! Посмотрите-ка на меня повнимательней. Может, и во мне приметите что-то идущее от семьи? Мне тоже дорога в сумасшедший дом? Наверняка так бы оно и было, будь все дело в семье, ведь я из той же семьи. Этот молодой человек — мой брат. И я отнюдь не стыжусь открыто назвать братом человека только несчастного, но никак не испорченного. Его ведь зовут Эмиль, Эмиль Таннер? Разве я мог бы это знать, если б он не был моим родным, милым братом? А его отец, и мой тоже, разве не торговец мукой, ведущий также солидную торговлю бургундскими винами и прованским маслом?
— В самом деле, все верно, — сказал тот, что вел рассказ.
А Симон продолжал:
— Нет, дело вовсе не в семье. Я никогда с этим не соглашусь. Просто несчастливое стечение обстоятельств. Бабенки тут ни при чем. Вы правы, говоря, что дело не в бабенках. Разве в несчастьях мужчин непременно надобно винить бедных женщин? Почему бы не поискать объяснение попроще? Может быть, все дело в характере, в частичке души? Так, всегда только так, а почему? Смотрите, вот я делаю жест рукой: так, так! В этом все дело. Человек чувствует вот так, и затем действует вот так, и следом натыкается на всяческие стены и препятствия. Людям всегда сразу приходит на ум ужасная наследственность и все такое прочее. На мой взгляд, это смехотворно. И какая трусость и какое неуважение — винить в своем несчастье родителей и дедов. Нехватка порядочности и мужества и кое-что еще: неподобающая изнеженность — вот что это такое! Коли человека постигает несчастье, стало быть, в нем изначально есть предпосылки, позволяющие судьбе наслать несчастье на его голову. Знаете ли вы, чем этот мой брат был для меня? Для меня и для Каспара, его младших братьев? На прогулках он учил нас чувствовать прекрасное и возвышенное, в ту пору, когда мы еще были ужасными озорниками, которые то и знай учиняли скверные проказы. Из его глаз мы впитывали пламя восторга перед искусством. Вы можете себе представить, до чего прекрасно было это время, ищущее понимания, полное чудесных, поистине дерзновенных устремлений? Давайте разопьем еще бутылочку вина, я заплачУ, да-да, я, хоть и нищий безработный. Эй, хозяин, бутылочку водуазского! Причем наилучшего, какое у вас есть… Я человек вовсе бесчувственный. Бедного Эмиля я давно позабыл. Недосуг мне думать о нем, ведь положение мое в мире, видите ли, таково, что стоять прямо, с поднятой головой я могу, лишь отбиваясь руками и ногами. Упаду я, только если забуду о необходимости стоять. И ставши сам достоин жалости, я, наверно, найду время думать о несчастных и сострадать им. Но покуда до этого не дошло, и я намерен смеяться и шутить еще и перед лицом смерти. Во мне вы видите довольно-таки несокрушимого человека, умеющего сносить всяческие невзгоды. Жизни вовсе не обязательно слишком уж блистать, она и без того выглядит в моих глазах блистательно. Большей частью она для меня прекрасна, и я не понимаю людей, которые зовут ее скверной и клянут. Ну, вот и вино. Я всегда кажусь себе весьма благородным, когда пью вино. Мой бедный брат еще жив! Благодарю вас, сударь, что вы нынче пробудили во мне память о несчастном. А теперь, без всякой мягкосердечности, давайте чокнемся, господа: да здравствует несчастье!
— Почему, позвольте спросить?
— Вы преувеличиваете!
— Несчастье просвещает, поэтому я прошу вас осушить за него бокалы с искристым вином. Еще раз! Вот так. Благодарю вас. Позвольте вам сказать, что я друг несчастья, притом весьма близкий, ибо оно заслуживает близости и дружбы. Оно делает нас лучше и оказывает нам таким образом большую услугу. Притом услугу подлинно дружескую, и на нее должно ответить, коли хочешь зваться порядочным человеком. Несчастье — слегка хмурый, но предельно честный друг нашей жизни. С нашей стороны было бы изрядной дерзостью и бесчестностью не замечать его. В первую минуту мы никогда не понимаем несчастье, оттого и ненавидим его в миг прихода. Оно — гость утонченный, скромный, нежданный, его приход неизменно застает нас врасплох, будто мы этакие остолопы, которых всегда можно застать врасплох. Тот, кто способен заставать врасплох, кто бы он ни был и откуда бы ни явился, наверняка должен быть необычайно утонченным. Совершенно не давать о себе знать и вдруг прийти, не предупреждать о себе заранее ни вкусом, ни запахом, а потом вдруг фамильярно хлопнуть по плечу, обратиться на «ты», улыбнуться и предстать перед глазами, показывая бледное, мягкое, всеведущее, прекрасное лицо, — для этого надобно много чего уметь, тут потребны иные аппараты, нежели летательные, кое-как придумав которые мы, люди, уже загодя хвастаем в высокопарных, судьбоносных речах. Да, несчастье прекрасно. Оно доброе, поскольку содержит в себе и счастье, свою противоположность. Мне представляется, что оно вооружено двояким оружием. Голос у него гневный и губительный, но вместе мягкий и ласковый. Оно пробуждает новую жизнь, разбивши старую, которая ему не нравилась. Призывает к лучшей жизни. Всей красотой, коль скоро мы еще надеемся пережить прекрасное, мы обязаны ему. Оно заставляет нас наскучить одними красотами и своим перстом указывает нам другие! Разве несчастная любовь не самая прочувствованная, а потому самая нежная, тонкая и прекрасная? Разве не звучит толика одиночества в мягких, ласкающих, благостных звуках? Разве ново все то, что я вам говорю, господа? Впрочем, ново здесь само высказывание, ведь это редко говорят вслух. Большинству не хватает духу приветствовать несчастье как нечто, в чем можно омыть душу, будто члены в воде. Посмотрите на себя, когда разденетесь донага. Какая роскошь — нагой, здоровый человек! Какое счастье — остаться без одежды, стоять нагим! Уже счастье — родиться на свет, а не иметь иного счастья, как быть здоровым, — тоже счастье, которое блеском своим затмевает драгоценнейшие каменья, прекраснейшие ковры и цветы, дворцы и чудеса. Самое чудесное — это здоровье, вот счастье, к нему невозможно прибавить ничего другого, сходного, разве что человек с течением времени настолько огрубеет, что пожелает захворать, но зато иметь мошну, набитую деньгами. Такому изобилию роскоши и счастья, коли ты вправду склонен полагать изобилием нагое, крепкое, подвижное, горячее тело, дарованное для земной жизни, необходим своего рода противовес: несчастье! Оно не дает нам выплеснуться пеною через край, оно дарует нам душу. Учит наше ухо внимать прекрасному звуку, который раздается, когда душа и тело, смешавшись, слившись воедино, дышат в гармонии. Оно делает из нашего тела нечто телесно-душевное, обеспечивает нашей душе постоянное пребывание в нас, так что мы при желании ощущаем все свое тело как душу — ноги как душу бегущую, руки как несущую, ухо как внемлющую, стопы как благородно ступающую, рот как целующую. Оно только и побуждает нас любить, ведь где любовь, там и малая толика несчастья, верно? Во снах оно еще прекраснее, нежели наяву, ибо в сновидениях мы разом постигаем сладость и восхитительную доброту несчастья. В иных случаях это для нас затруднительно, а именно когда оно является к нам в форме денежной потери. Но может ли она быть несчастьем? Потерявши кассовый чек, что мы теряем? Конечно, это неприятно, однако ж не причина для долгой безутешности, ведь не требуется много времени, чтобы уразуметь: это ненастоящее несчастье. И так далее! Рассуждать можно еще долго. Но в конце концов надоедает…
— Вы говорите как поэт, сударь, — с улыбкой заметил один из мужчин.
— Возможно. Вино всегда настраивает меня на поэтический лад, — отвечал Симон, — хотя обычно я отнюдь не поэт. Обыкновенно я даю себе инструкции и в целом не склонен увлекаться фантазиями и идеалами, так как считаю это весьма неразумным и дерзким. Поверьте, я могу быть сущим сухарем. Да и негоже сразу полагать каждого, кто рассуждает о красоте, мечтательным поэтом, как, сдается, поступаете вы; даже совершенно холодному и расчетливому ростовщику или банковскому кассиру иной раз случается думать о вещах, далеких от их деньгостяжательских занятий. Как правило, многих людей полагают бесчувственными и малоспособными к размышлениям, поскольку не умеют наблюдать их по-другому. Я ставлю перед собою задачу вести с каждым человеком смелый, сердечный разговор, чтобы как можно скорее увидеть, с кем имею дело. С таким жизненным приниципом частенько срамишься, а порой получаешь и оплеуху, к примеру от нежной дамы, но что за беда! Я рад осрамиться и смею всегда быть уверен, что уважение тех, в чьих глазах с первым же вольным словцом роняешь свое достоинство, стоит не больно-то много, а потому нет и причин огорчаться. Уважение к человеку всегда поневоле страдает от человеколюбия. Вот что я хотел сказать на ваше слегка насмешливое замечание, которым вы намеревались меня уязвить.