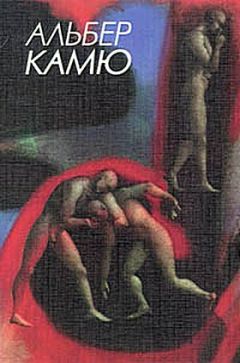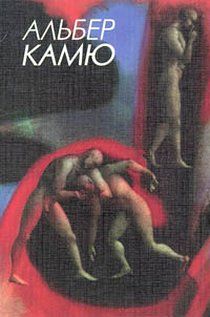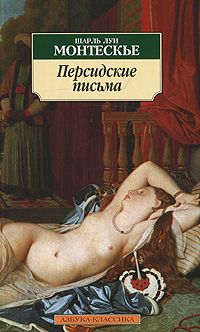Альбер Камю - Падение. Изгнание и царство
Как раз в эту пору благодаря успеху Ионы у него появилось много друзей. Эти друзья заявляли о себе по телефону или неожиданными визитами. Телефон, который по зрелом размышлении установили в мастерской, часто звонил, опять-таки в ущерб сну ребенка, присоединявшему свой плач к этим властным звонкам. Если случайно Луиза в это время ухаживала за другими детьми, она бежала в мастерскую вместе с ними, но по большей части опаздывала: Иона одной рукой держал ребенка, а другой кисти и телефонную трубку, выслушивая любезное приглашение позавтракать с кем-нибудь из новых друзей. Иону восхищало, что с ним, отнюдь не блестящим собеседником, хотят позавтракать, но он предпочитал выходить из дому вечером, чтобы не разбивать рабочий день. К несчастью, чаще всего друг был очень занят, мог урвать часок только в первую половину дня и только завтра и хотел провести его непременно с дорогим Ионой. Дорогой Иона соглашался: «Как вам будет угодно», – вешал трубку, ронял: «Как это мило с его стороны», – и передавал ребенка Луизе. Потом он опять принимался за работу, которую скоро прерывал завтрак или обед. Приходилось отодвигать холсты, раскладывать усовершенствованный стол и усаживаться за него с детьми. Во время еды Иона поглядывал на неоконченную картину и, случалось, по крайней мере в первое время, находил, что дети немножко медленно жуют и глотают и это слишком затягивает семейную трапезу. Но он прочел в газете, что есть следует медленно, чтобы хорошо усваивать пищу, и с тех пор, садясь за стол, всякий раз находил основания радоваться.
Часто новые друзья Ионы навещали его. Рато приходил только по вечерам. Днем он был на службе, и потом, он знал, что художники работают при дневном свете. Но новые друзья Ионы почти все принадлежали к сословию художников и критиков. Одни когда-то занимались живописью, другие собирались заняться живописью, третьи писали о живописи прошлого и будущего. Все они, конечно, очень высоко ставили творческий труд и жаловались на организацию современного общества, мешающую этому труду и столь необходимой для художника сосредоточенности. Они часами предавались этим жалобам, умоляя Иону продолжать работать, не обращать на них внимания, не церемониться с ними, ибо они не буржуа и знают, как дорого художнику время. Иона, радуясь, что его друзья великодушно позволяют ему работать в их присутствии, возвращался к своей картине, не переставая отвечать на вопросы, которые ему задавали, и смеяться, когда ему рассказывали анекдоты.
Иона держался так просто, что его друзья чувствовали себя все более непринужденно. Благодушествуя, они даже забывали о том, что хозяевам пора обедать. Но дети были не так забывчивы. Они прибегали, присоединялись к гостям, забирались на колени то к одному, то к другому, поднимали шум и крик. Наконец в квадрате неба над двором начинал меркнуть свет, и Иона откладывал кисти. Оставалось только пригласить друзей пообедать чем бог послал, а потом толковать до поздней ночи, разумеется, об искусстве, но в особенности о бездарных художниках, плагиаторах или халтурщиках, которых среди присутствующих, конечно, не было.
Иона любил вставать рано, чтобы воспользоваться утренним освещением. Он знал, что на следующий день ему будет трудно подняться, что утренний завтрак не будет готов вовремя и что он сам будет чувствовать себя усталым. Но с другой стороны, он был рад за один вечер узнать так много нового, это не могло не принести ему, как художнику, пользу, пусть неприметную для него самого. «В искусстве, как и в природе, ничто не пропадает, – говорил он. – И тут меня ведет счастливая звезда».
Иногда к друзьям присоединялись ученики: теперь у Ионы была своя школа. Сначала он был этим удивлен, не понимая, чему можно научиться у него, для которого все было открытием. Как художник, он сам продвигался на ощупь; как же мог он наставить кого-нибудь на истинный путь? Но довольно быстро он понял, что ученик – это вовсе не обязательно человек, который хочет чему-нибудь научиться. Наоборот, гораздо чаще учениками становятся из бескорыстного желания поучать своего учителя. С той поры он мог смиренно принимать эту новую дань уважения. Ученики пространно объясняли Ионе, что он изобразил и почему. Иона таким образом обнаруживал в своем творчестве осуществление замыслов, которые слегка удивляли его, и бездну вещей, о которых он даже не подозревал. Он считал себя бедным, а благодаря своим ученикам вдруг оказывался богатым. Иногда перед лицом стольких богатств, доселе неведомых ему, он испытывал капельку гордости. «А ведь верно, – говорил он себе. – Вот это лицо на заднем плане приковывает взгляд. Я не совсем понимаю, что они имеют в виду, когда говорят о косвенной гуманизации. Однако с этим эффектом я в самом деле изрядно продвинулся вперед». Но очень скоро он избавлялся от обязывающего сознания своего мастерства, относя удачу за счет счастливой звезды. «Это звезда продвигается, – говорил он себе, – а я остаюсь с Луизой и детьми».
Впрочем, у учеников было и другое достоинство. Они побуждали Иону строже относиться к самому себе. Они говорили о нем и особенно о его добросовестности и работоспособности с таким восхищением, что после этого он уже не мог позволить себе ни малейшей слабости. Так, он расстался со старой привычкой, окончив трудное место, грызть кусочек сахару или шоколаду, прежде чем снова приняться за работу. В одиночестве он вопреки всему тайком уступил бы этой слабости. Но его моральному совершенствованию помогало почти постоянное присутствие учеников и друзей, при которых ему было как– то неловко грызть шоколад, прерывая к тому же интересную беседу ради такой блажи.
Кроме того, его ученики требовали, чтобы он оставался верен своим эстетическим принципам. Иона, который долго трудился, прежде чем его посещало мимолетное озарение, когда действительность представала перед его взором в первозданном свете, имел лишь смутное представление о своих эстетических принципах. Его ученики, напротив, прекрасно знали эти принципы и давали им многочисленные толкования, противоречивые и весьма категоричные, – на этот счет они не шутили. Порой Ионе хотелось призвать в советчики каприз, который всегда был покорным другом художников. Но его ученики, глядя на некоторые полотна, расходившиеся с их пониманием прекрасного, хмурили брови, и это заставляло Иону более вдумчиво относиться к искусству, которому он себя посвятил, что шло ему только на пользу.
Наконец, ученики помогали Ионе и другим способом, заставляя его высказывать свое мнение об их собственных произведениях. В самом деле, не проходило дня, чтобы ему не приносили едва набросанный этюд, который автор ставил между Ионой и начатой им картиной в расчете на самое выгодное освещение. Нужно было что-то сказать. До тех пор Иона всегда втайне стыдился своей полной неспособности дать оценку произведению искусства. За исключением немногих картин, приводивших его в восторг, и грубой мазни, о которой не стоило и говорить, все в равной мере казалось ему интересным и ко всему он оставался равнодушен. Таким образом, он был вынужден составить себе арсенал разнообразных суждений, тем более что его ученики, как и все столичные художники, были, в общем, люди небесталанные, и, когда они собирались у него, ему нужно было проводить тонкие различия между их работами, чтобы угодить каждому. Эта отрадная обязанность заставила его выработать соответствующий лексикон и определенные взгляды на искусство. Однако его природная благожелательность не пострадала от усилий, которых это потребовало от него. Он быстро понял, что его ученики ждали от него не критики, которая была им ни к чему, а лишь поощрений и, если возможно, похвал. Нужно было только, чтобы эти похвалы различались между собой. Иона уже не довольствовался поэтому своей обычной любезностью. Он стал изобретательно любезен.
Так текло время у Ионы, который писал теперь среди друзей и учеников, располагавшихся на стульях, расставленных в несколько рядов вокруг его мольберта. А часто к его зрителям присоединялись соседи, выглядывающие из окон дома напротив. Он обменивался мнениями и спорил с друзьями, разбирал картины, которые представляли на его суд, улыбался Луизе, когда она заходила в комнату, утешал детей, с жаром отвечал на бесконечные телефонные звонки и, ни на минуту не выпуская из рук кистей, время от времени делал мазок на начатой картине. С одной стороны, жизнь его была полна, каждый час занят, и он благодарил судьбу, избавлявшую его от скуки. С другой стороны, чтобы написать картину, надо сделать много мазков, и порой он думал, что скука имеет свое преимущество, поскольку от нее можно спастись упорной работой. Иона между тем работал все меньше, по мере того как его друзьями становились все более интересные люди. Даже в те редкие часы, когда он оставался совсем один, он чувствовал себя слишком усталым, чтобы наверстывать упущенное, и в эти часы он мог лишь мечтать о новом укладе жизни, который примирил бы радости дружбы с достоинствами скуки.