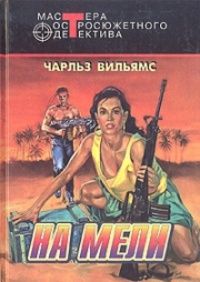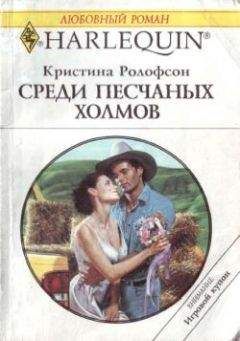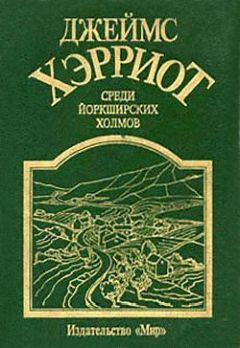Иван Лазутин - Последний этаж
И вдруг… Кораблинов даже вздрогнул от сильного хлопка дверью и резко повернул голову на звук, выведший его из забытья.
— Николай Самсонович!.. Друг мой!.. Победа!.. Победа!.. — Широко раскинув руки, Бояринов застыл неподвижно посреди комнаты.
— Что случилось?!. — с радостью и испугом проговорил Кораблинов, опираясь на локти, чтобы привстать, но тут же под острым приступом боли снова медленно опустился.
— На худсовете редакции драмвещания ваш радиоспектакль принят и включен в проект плана выпуска его в эфир. По первой программе!.. На всю страну!.. Его смогут слушать даже космонавты в космосе!.. — Бояринов склонился над Кораблиновым, крепко обнял его за плечи и поцеловал. — Вы плачете?.. — А впрочем — не стыдитесь слез!.. Плачут и от радости!..
— Подними меня, Леон!.. Я хочу встать, — строго сказал старик и тыльной стороной кисти руки стер со щеки набежавшую слезу. — Такие вещи нужно слушать стоя.
Бояринов помог Кораблинову встать с постели, хотя тому это стоило больших усилий. А когда они очутились рядом, грудь с грудью, так что их взгляды встретились, выпрямившись во весь свой рост, старик, который был на полголовы выше Бояринова, заключил его в крепкие объятья и трижды расцеловал. И снова на глазах его стояли слезы.
— Спасибо, Леон… Так ты сказал, что на худсовете спектакль приняли?
— Да!.. Об этом мне сообщил заместитель главного редактора Карнилов, которому я только что звонил. Он даже сказал, что всем вам, в порядке авансирования, уже выписан гонорар. Вот будет рада студенческая братва!..
— Да, но ведь после худсовета спектаклю предстоит еще утверждение на Главной редакции? Что ты скажешь на это? — В голосе Кораблинова звучала тревога.
— Это уже чистая формальность. Знаю по себе. Все, что принимает худсовет редакции, Главная редакция подписывает не глядя и не прослушивая.
— Ну что ж, Леон… — Кораблинов провел ладонью по седой шевелюре. — Спасибо и за эти успокоительные слова. А сейчас ступай. Мы оба устали.
На прощанье обнялись, расцеловались.
Опускаясь в лифте, Бояринов подумал: «Вряд ли я так обрадуюсь, если на лотерейный билет, который мне дали вчера вместо сдачи, выиграю мотоцикл «Урал». А ведь о нем вот уже много лет мечтает младший брат. Для сельского жителя «Урал» дороже, чем для москвича «Волга». А ему нужно помочь. Но как?..»
Выйдя на улицу, Бояринов миновал пеструю стайку обитателей пансионата, которые при виде его сразу умолкли.
«И все-таки тяжело с ним, — думал Бояринов. — Талант крупный, но тяжелый. Ничего не берет на веру, все подвергает сомнению. Все пробует на оселке справедливости и совести. Как гирю повесил на душу своими разговорами. Даже дышать тяжело. В принципе старик прав, хотя и звучат в его философии нотки старой песни: «Молодежь пошла не та…», «Не по-нашему живут…» А родись ты, Кораблинов, сорока годами позже, хотел бы я видеть тебя — по каким нравственным канонам и по какому ритму ты жил бы. Поплыл ли ты против бурного течения времени?.. А если, руководствуясь высшими принципами совести, поплыл бы, то надолго ли хватило у тебя сил на это противоборство?..»
Всю дорогу из головы Бояринова не выходили последние тревожные слова старика о том, что после решения худсовета спектаклю предстоит пройти утверждение в Главной редакции. Но тут же, чтобы успокоить себя, сказал сам себе вслух:
— Ничего, все будет хорошо!.. Услышит твоего Лира Россия и далеко окрест.
Глава двенадцатая
Конец мая стоял сухой, теплый. Молоденькая листва деревьев, зелеными кострами вспыхнувшая на солнце, молодила столицу, обновляла ее улицы и скверы, обливала изумрудными облачками газоны.
Как и всегда, на грани весны и лета, природа в эту пору чем-то напоминала собой, всей своей здоровой свежестью только что проснувшегося румяного, улыбающегося во сне ребенка, сладко потягивающегося в кроватке.
Татьяна Сергеевна молодела душой, становилась непоседливой, ей хотелось куда-то ехать, с кем-то непременно общаться, все ее существо в это время наполнялось неисчерпаемым зарядом энергии, которого хватало на все: на творчество, на дружбу, на домашние хлопоты, на общественные дела, которых у нее было всегда больше, чем у других.
Одиночество и надвигающаяся старость, которые в тоскливые зимние вечера выходных дней в театре все теснее сжимали вокруг нее свой горизонт, в эти солнечные дни начала лета как бы выветривались из души. А тут еще предстоящие гастроли во Францию, разрекламированные с осени так, что не было в театре человека, кто бы не носил в своей душе сомнение: «А вдруг я не попаду в список?» Причем, вопрос этот волновал не только рабочих театра и вспомогательный состав труппы, которым далеко не всем выпало счастье побывать в зарубежных поездках. Еще не сверстанный гастрольный репертуар держал в напряжении и ведущих артистов театра: а вдруг спектакли, в которых они заняты, не повезут за рубеж? Свой репертуар — три-четыре спектакля из двадцати, находившихся в работе последние десять лет — руководство театра только предлагает, а министерство культуры в свою очередь все принципиальные дела согласует и решает на более высоких инстанциях.
У Татьяны Сергеевны в этом плане на душе было светло: окончательный вариант репертуара был в самых верхах уже утвержден три дня назад, о чем ей сообщил под большим секретом помощник министра. На ее счастье и на зависть тем, кому зарубежная поездка не предстоит, она была занята в трех спектаклях из четырех, которые театр будет играть в Париже, в Марселе и в Лионе.
Чтобы иметь хотя бы общее представление об этих трех крупнейших городах Франции, вчера всю вторую половину дня Татьяна Сергеевна провела в читальном зале библиотеки имени Ленина, где по энциклопедии и справочникам знакомилась с историей, культурой и архитектурой городов, где театру предстояло работать весь июнь и июль месяцы. Купила даже русско-французский разговорник, который штудировала по утрам, еще лежа в постели. А после дневной репетиции спектакля «Все дороги ведут в Рим», плановая премьера которой назначена на глубокую осень, сегодня в конце дня ей предстояло отсидеть часа два в президиуме на совещании Комитета советских женщин. Дел, забот, хлопот и волнений было хоть отбавляй, но усталости не чувствовалось. Наоборот: к вечеру тело становилось гибким и сильным, как стальная скрученная пружина, готовая реагировать на малейшее прикосновение посторонней силы. Временами, чувствуя этот приток вечерних сил, Татьяна Сергеевна с опасением думала: «А может быть, это маленький стресс от удач и радостей!?. Ты смотри, девонька, от таких душевных перегрузок, неровен час, и инфаркт хватит. Да не забывай, что аритмия твоя появилась не оттого, что ты непосильные тяжести таскала, а на почве, как говорят врачи, эмоциональных перепадов…»
Позвонив своей парикмахерше, которая вот уже более двадцати лет колдовала над ее стрижкой и укладкой, Татьяна Сергеевна попросила ее, чтобы та, по возможности, побыстрее усадила ее в кресло.
— Милая Леночка, я растрепанная, как Мальчиш-Кибальчиш, ведь я не была у тебя целых четыре недели!.. Ты ахнешь, когда увидишь меня.
Время от времени делая короткие паузы, чтобы перевести дыхание, Татьяна Сергеевна, словно боясь, что ее парикмахерша, установившая за правило звонить ей за день-два перед тем, как сесть в ее кресло — у нее все было расписано — жаловалась на занятость от зари до зари, на сумасшедшие хлопоты перед гастрольными поездками за рубеж, а кончила свой телефонный монолог чисто женской интригой: — Ну, уж из Парижа-то, миленькая, я привезу тебе то, о чем ты просила меня в последний раз. Склерозом пока не страдаю. — Наблюдая перед зеркалом за мимикой своего выразительного лица, — телефон стоял на подзеркальнике, — Татьяна Сергеевна по-ребячьи шаловливо прищелкнула языком, сама себе лукаво подмигнула и легкой отмашью тонкой кисти поправила упавшую на глаза прядь золотистых волос.
Довольная тем, что парикмахерша не заставит ее томиться в очереди, она выпила чашечку кофе, который она варила искусно и быстро, и уже собиралась уходить из театра, как в дверь гримуборной кто-то робко постучал.
— Войдите! — бросила через плечо Татьяна Сергеевна, разглаживая пальцами морщинки у глаз. Последний год их стало больше, и залегали они все глубже и резче.
Вошел Серафим Христофорович. На его старческом лице затаилась светлая виноватая улыбка. В руках он держал книгу, завернутую в бумагу.
— Приветствую вас, дорогая Татьяна Сергеевна! Рад сообщить вам приятную весточку.
«Что может приятного сообщить мне этот старый добрый человек, который провел свои последние пятнадцать лет в подвале, утонув в море запыленных архивных папок?» — подумала Татьяна Сергеевна, вглядываясь в лицо архивариуса и стараясь понять значение его виноватой улыбки. А спросила другое: