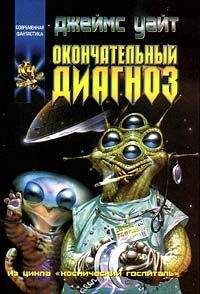Джон Голсуорси - Из сборника Пять рассказов
- Подсудимый, вам предоставляется выбор: либо занять место для свидетелей и давать показания под присягой, в каковом случае вас могут подвергнуть перекрестному допросу, либо вы можете сделать свое заявление прямо со скамьи подсудимых, в этом случае перекрестному допросу вас подвергать не будут. Что вы выбираете?
- Отсюда, милорд.
Сейчас, взглянув прямо в лицо подсудимому, который вдруг словно ожил, пытаясь словами объяснить свои чувства, мистер Босенгейт вдруг как-то совсем по-иному увидел этого человека. Казалось, он сбросил с себя военную форму и живым, трепетным существом выступил из своей собственной тени. Его измученное, чисто выбритое лицо казалось еще более диким и огрубевшим, большие карие глаза потемнели и приобрели мрачный блеск; он дергал руками, дергался всем телом, как человек, только что избавившийся от судороги или скинувший с себя доспехи. Говорил он быстро, решительно, довольно резким голосом и, как полагается истинному уроженцу Уэльса, громко произнося гласные и оглушая согласные.
- Милорд судья и господа присяжные, - сказал он. - Я был парикмахером, когда пришло мне время идти в армию. У меня был маленький домик и жена. Я никогда не задумывался над тем, каково мне будет вдалеке от них, никогда... И мне стыдно рассказывать перед вами, как это может давить и давить человека, может свести его с ума, особенно, когда он такой нервный, как я. Не все любят свой очаг; сколько хочешь таких, что и вовсе не хотят больше видеть своих жен. Но для меня это все одно, что быть запертым в клетке.
Мистер Босенгейт увидел, как просвечивали пальцы обвиняемого, когда тот резко выбросил вперед руку.
- Я не могу сидеть взаперти, далеко от жены и дома, как приходится в армии. И вот, когда я в то утро взял в руки бритву, я был в исступлении... и я не был бы здесь, если бы тот парень не схватил меня за руку. Я признаю, что это не причина для самоубийства. Это было глупо. Но погодите, а вдруг вам придется испытать то же чувство, что было у меня, тогда вы увидите, как оно захватывает человека! Господа присяжные, не посылайте меня обратно в тюрьму: там еще хуже. Если у вас есть жены, вы поймете, каково многим из нас. Но не у всех нервы выдерживают. Клянусь вам, господа, я не мог ничего с собой поделать... - Опять человечек выбросил вперед руку, а мистер Босенгейт испытал то же чувство, что в тот день, когда задавил собаку. - Господа присяжные, желаю вам, чтобы никогда в жизни вам не пришлось так тяжко, как пришлось мне...
Маленький человечек умолк, глаза его спрятались в глазницах, и сам он скрылся в своей мрачно-коричневой оболочке с блестящими пуговицами. Мистер Босенгейт смутно слышал напутствие судьи присяжным и вскоре, оказавшись за столом красного дерева в совещательной комнате, услышал голос человека с рыжей шевелюрой: "Ну и чушь же он порол, этакая зануда!" А почувствовав запах винного перегара, он понял, что слева от него - опять слева! - сидит коммивояжер, который вытирает лоб платком и бормочет: "Ффу, ну и жара же сегодня!" Потом усатый человек с тремя кустиками волос на лысине сказал:
- Непонятно, зачем мы ушли в совещательную комнату, господин старшина!
Мистер Босенгейт посмотрел туда, где во главе стола, в белом жилете, неприступный в своем аристократизме, восседал Джентльмен Лис. Он кротко произнес:
- Я буду очень рад услышать мнение господ присяжных.
Наступило короткое молчание, после чего аптекарь сказал:
- У него, вероятно, то, что называется клайстрофобией.
- Что за чепуха! Парень просто увиливает, вот и все! Соскучился по жене - хорошенькая причина! По-моему, это просто непристойно!
Это сказал тот самый маленький человечек с жесткими волосами; мистер Босенгейт вскипел. Какой невежа! Он ухватился обеими руками за край стола.
- Мне кажется, это вполне естественно! - пробормотал он. Но не успели слова сорваться с его губ, как он почувствовал ужас: "Что он сказал, он, без пяти минут полковник Добровольческого корпуса, одобряет такой антипатриотизм!" И услышав, как коммивояжер вполголоса поддержал его: "Правильно!" - сильно покраснел.
Человек с жесткими волосами грубо сказал:
- Слишком много развелось этих негодяев, которые увиливают, и с ними слишком уж много нянчатся!
Смятение в душе мистера Босенгейта росло. Он произнес ледяным тоном:
- Я буду голосовать против всякого вердикта, по которому этого человека снова посадят в тюрьму.
Все сидевшие за столом вздрогнули, словно уже представили себе, что наступило время завтракать, а они все еще заседают. Потом высокий седой человек, имевший привычку подмигивать, сказал:
- Ну что вы, сэр, и это после того, что говорил судья! Что вы! А ваше мнение, господин старшина?
Джентльмен Лис, с видом человека, который хочет сказать: "Это замечательный товар, но я вам его не навязываю", - ответил:
- Нам следует учитывать только факты. Пытался он лишить себя жизни или нет?
- Ну, конечно, он сам это признал, - услышал мистер Босенгейт голос человека с жесткими волосами, и он один не присоединился к согласному хору голосов. Виновен? Да, конечно. Не признать это просто невозможно, но все его существо протестовало против того, чтобы предоставить этого "бедного малого" милосердию английского правосудия. Он не мог заставить себя согласиться с этим невежей да и со всей этой разношерстной компанией. Он почувствовал желание встать и выйти, бросив на ходу: "Делайте, как хотите! Всего хорошего".
- Мне кажется, сэр, - говорил Джентльмен Лис, - что мы все, кроме вас, считаем его виновным. С вашего позволения, я не могу понять, как вы можете отрицать то, что признал сам подсудимый.
Вынужденный защищаться, мистер Босенгейт, покраснев, как рак, засунул руки глубоко в карманы и, глядя прямо перед собой, сказал:
- Хорошо. Тогда вынесем такой вердикт: виновен, но заслуживает снисхождения.
- Как вы считаете, господа, виновен, но заслуживает снисхождения?
- Правильно, правильно! - крикнул коммивояжер, а аптекарь проговорил вполголоса:
- От этого вреда не будет.
- Ну, а я думаю, что будет. На фронте дезертиров расстреливают, а мы хотим отпустить этого парня. Я бы его повесил, как собаку.
Мистер Босенгейт пристально посмотрел на бессердечного человечка с жесткими волосами. Ему хотелось сказать: "Неужели у вас нет никакого сочувствия к людям? Неужели вы не понимаете, как бедняга страдает?" Но сказать это перед десятью посторонними людьми было невозможно; лоб его покрылся испариной, и он взволнованно ударил кулаком по столу. Это сразу же возымело действие. Все посмотрели на человечка с жесткими волосами, как бы говоря: "Да, ты, кажется, далеко зашел". Тот помолчал немного, потом сказал угрюмо:
- Что ж, пусть так, заслуживает снисхождения. Мне наплевать.
- Верно! Все равно на эту оговорку никогда не обращают внимания, сказал седой человек, добродушно подмигивая, и мистер Босенгейт вместе со всеми вернулся в зал суда.
Но самое тяжелое чувство он испытал, когда, сидя на скамье присяжных, еще раз посмотрел на подсудимого. Почему должен этот несчастный так страдать ни за что, ни про что, в то время, как он, мистер Босенгейт, и все остальные - и злобный прокурор, и судья, похожий на Цезаря, - отправятся к своим очагам и женам, веселые, как пчелы в летний день, и, скорее всего, никогда в жизни больше о нем и не вспомнят? Неожиданно до его сознания дошел голос судьи:
- Вы вернетесь в свой полк и приложите усилия к тому, чтобы беззаветно служить своей стране. Вы должны благодарить присяжных за то, что вас не посылают в тюрьму, и милостивую судьбу за то, что вы были не на фронте, когда пытались свершить этот малодушный поступок. Вам повезло: вы остались в живых.
Полисмен потянул солдатика за рукав, и бесцветная фигурка с остановившимся, потухшим взглядом спустилась с возвышения и вышла из зала. Мистеру Босенгейту захотелось перегнуться через перегородку и от всего сердца сказать: "Не унывай! Не унывай! Я тебя понимаю".
Было почти десять часов вечера, когда он приехал домой после строевых занятий. Физическую усталость он преодолел, перекусив в отеле и выпив стаканчик виски с содовой, но морально он был в странном состоянии. Жажда телесная была удовлетворена, жажда духовная требовала утоления. В эту ночь он желал не поцелуев жены, а ее сочувствия. Ему хотелось подойти к ней и сказать: "Я многому научился сегодня, познал вещи, о которых прежде никогда не задумывался. Жизнь - чудесная штука, Кэйт, ее нельзя прожить, думая только о себе, надо делиться с другими, так, чтобы, когда кто-то другой страдает, страдал и ты. Я вдруг понял: важно не то, чем человек владеет, а лишь то, что он делает и насколько он сочувствует другим людям. Я понял это с необычайной ясностью, когда заседал в суде и смотрел, как этот солдатик метался, словно мышь, попавшая в мышеловку. Впервые в жизни я ощутил... знаешь... истинный дух Христа. Это чудесно, Кэйт... чудесно! Ты и я, мы никогда не были близки друг другу, по-настоящему близки, так, чтобы один понимал другого. А знаешь, ведь это главное, - понимание, сочувствие, это бесценный дар. Когда я увидел, как этого беднягу увели, чтобы отправить в часть, где он заново должен переживать свое горе, рваться к жене, снова и снова думать о ней, точно так же, как я бы думал и рвался к тебе, я понял, какой отчужденной жизнью мы живем, никогда не поверяя друг другу того, что мы действительно думаем и чувствуем, никогда не достигая полного слияния друг с другом. Я уверен, что тот парень и его жена ничего друг от друга не скрывали, наверное, жили душа в душу. Вот так и мы должны жить. Нам нужно по-настоящему почувствовать, что самое важное - понимать и любить ближнего, а не только говорить об этом, как все мы это делаем, - и присяжные и даже этот бедняга судья - ведь как это ужасно - судить ближнего! С той минуты, как я сегодня утром в последний раз увидел этого солдатика, я весь день стремился домой, чтобы тихо посидеть с тобой, излить тебе свою душу и положить начало новой жизни. В этом чувстве есть что-то чудесное, и мне хочется, чтобы и ты им прониклась, как я, потому что ты так много значишь для меня".