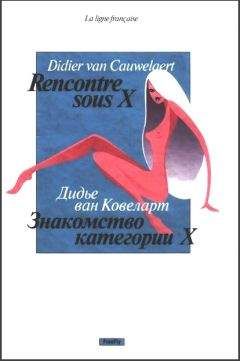Ковелер Ван - Запредельная жизнь
Но за три месяца до срока доктор утонул в озере; нырнул и задохнулся. И увлечение кончилось. Не знаю, кто из нас - Фабьена или я - вспомнил об этом ее акушере-подводнике, сидя на пахнущей супом лестнице. Я уже не могу отличить, где ее мысли, а где мои собственные. Так или иначе, хоть она никогда ничего мне об этом не говорила, но первой потерей в ее жизни был именно он.
Наила вернулась одна, держа в одной руке шлем, в другой газеты. Фабьена встала ей навстречу. Вот уже час она вскакивала каждый раз, как на лестнице загорался свет. Наила посмотрела на нее без малейшего удивления.
- Они переехали, - вежливо сказала она, указывая на дверь напротив. - Могу вам дать их новый адрес.
- Я Фабьена Лормо, - ответила моя жена.
Наила замерла. Недоверчиво оглядела гостью, заметила прислоненную к перилам картину. И резко повернулась. Фабьена поймала ее уже на второй ступеньке.
- Да нет же, я не для того пришла, чтобы упрекать вас и выяснять отношения. Ревность - пустое чувство, на котором я не собираюсь зацикливаться. Мы с вами потеряли одного и того же человека... то есть скорее всего не одного и того же... Но кто еще сегодня может рассказать мне о нем? И с кем я могу о нем поговорить, кроме как... Я прошу у вас всего пять минут.
Наила возвращается, открывает дверь, пропускает Фабье-ну. Зажигает свет, уменьшает яркость и снимает куртку.
- Это он сказал вам про нас?
- Нет, - улыбается Фабьена, распаковывая картину. - Люди. Фотография, анонимное письмо... "Твой муж спит с арабкой". В таком духе...
- Я француженка, - твердо, со спокойным достоинством возразила Наила. - И никогда не сталкивалась в этом городе с расизмом.
- Потому что вы хороши собой. - Фабьена поставила незаконченный портрет на комод с выдвинутыми ящиками, из которых свисали рукава каких-то одежек. - Я подумала, что вам будет приятно иметь этот холст. Тем более что Жак в завещании оставил вам все картины, которые не заберут родственники.
Наила кусала губы и отворачивалась от портрета, как будто отстраняясь от своего изображения.
- Я очень сожалею, - сказала она.
- О чем?
- О том, что он упомянул меня в завещании. Это нехорошо по отношению к вам... Некрасиво...
- А я сталкивалась с расизмом, - оборвала Наилу Фабьена, пристально глядя на нее. - Вас это удивляет? Мои родители были тупые хамы, они видели, что я на них не похожа, но старались, как могли, заставить меня стать такой же. Свободой, достоинством, самоуважением я обязана Жаку. Так что никакого права в чем-либо упрекать его не имею - ни его, ни вас, Наила. Вы вели себя очень тактично, и не ваша вина, что Жаку в городе завидовали, а меня были рады-радешеньки унизить. Но я не намерена играть в эту гнусную игру. Жаку было с вами хорошо, а я его любила - вот и все, что я вижу.
Более того, он даже лучше относился ко мне, как бы искупая свою любовь к вам. Он был порядочным человеком.
- Я знаю.
- Я хотела бы, чтобы вы пришли на похороны.
- Почему?
- Из-за людей. Из-за анонимных писем. Я сейчас прошла через весь город с этой картиной под мышкой, чтобы все видели, что я иду к вам. Для нас обеих единственный способ защититься и отомстить - это быть вместе. Подружиться или, во всяком случае, сплотиться. Вы согласны?
Наила проглотила комок. Ее слегка оглушило. Меня тоже. Она предложила Фабьене присесть. Выпить. Угостила печеньем. Сообщила, чтобы моей жене не было неловко, что она находится на нейтральной территории: я никогда здесь не был.
- Вы его любили? Можете не отвечать.
Наила не ответила. Она зажгла палочку благовоний, налила по бокалу мартини, и обе стали пить, уставившись в электрокамин.
- Вы верующая, мадам Лормо?
- Честно говоря, не знаю. Я практикующая католичка: молюсь, грешу, исповедуюсь и причащаюсь. А еще я занимаюсь шведской гимнастикой. Когда молюсь, я верю. А когда смотрю на людей, сомневаюсь. Но ведь главное, кажется, раз в неделю посещать Бога в церкви?
- Не знаю. В моей религии очень трудно быть женщиной и сохранять веру. Похоже на такую игру, из которой выбываешь, как только сделаешь хоть одно движение. Я не выполняю никаких правил, но верю. Извините, у меня нет льда для мартини. Можете не пить. Что вы сделали для Жака?
- В каком смысле?
- Надо постирать его одежду в проточной воде. Все, что он носил... Это поможет его душе освободиться.
- Я постирала в машине, - извиняющимся тоном сказала Фабьена.
Наила развела руками, но ободряюще улыбнулась - обойдется и так.
- Надо дать ему время, - продолжала Наила. - Знаете, как начинается рамадан: на заре, когда глаз уже может отличать черную нить от белой. Примерно так же со смертью. Нужно сорок дней, чтобы во всем разобраться. И подготовиться к окончательному уходу. Можете отдать его вещи бедным, это хорошо, но оставьте две-три, которые он особенно любил. Не делайте больших перестановок, не меняйте то, к чему он привык... Чтобы у него остались ориентиры. Оставляйте свет и открытое окно там, где он спал... На случай, если он заблудится. И не плачьте о нем по ночам. Это ему повредит.
- Постараюсь, - пообещала Фабьена и встала, - вообще-то со мной это бывает чаще всего ближе к вечеру. - Как-то вдруг стало видно, до чего она устала. Одернув рукава, она прибавила: - Ну, я пойду. Если вам что-нибудь нужно...
Взгляд по сторонам пояснил, что она имела в виду все, о чем я мог позаботиться, от платы за жилье до мебели.
- Благодарю вас, я зарабатываю достаточно. Они попрощались за руку и немного помедлили.
- Можно я скажу вам одну вещь о Жаке, мадам Лормо?
-Да?
- Со мной в постели он всегда закрывал глаза.
Это неправда, но сказана она из самых добрых побуждений (хотя лично для меня любить Фабьену в теле Наилы значило бы обманывать дважды).
- И напрасно, - с ненаигранным восхищением ответила Фабьена.
С тем мы и ушли.
Не знаю и знать не хочу, что сделает Наила со своим неоконченным портретом. Почти наверняка он угодит в чулан или в подвал, а она так и будет спать с открытым окном. Мне до этого больше нет дела. Но то, что произошло между двумя моими возлюбленными, неоценимо важно. Впервые я горжусь этими своими параллельными связями, которые внезапно объединились. И сейчас для меня важнее всего, чтобы каждая из женщин чувствовала, что я остался ей верен.
За обедом они сидят вдвоем. Моего прибора нет, но перед моим местом машинально положили плетеную подставку. Люсьен молча ест суп, глядя в тарелку. Он недоволен, что Альфонс заехал за ним в школу на зеленом "ситроене" Одили: ее леопардовые чехлы, плюшевая собачка с болтающейся головой на заднем стекле и идиотские наклейки - это еще хуже, чем бедный фургончик Лормо. За два дня малыш как будто постарел, как может постареть мальчишка: уголки губ опустились, голова вжалась в плечи. Да, траурная повязка защитила его сегодня на переменках от насмешников и рэкетиров, его как сироту отпустили с физкультуры, но все равно - я чувствую - он обижен на меня за то, что меня нет. Обижен, потому что ему кажется, что все слишком быстро научились без меня обходиться. Фабьена после разговора с Наилой как-то успокоилась, ходит с мечтательной улыбкой и затуманенным взглядом. Еще позавчера она каждую минуту делала сыну замечания по поводу того, как он сидит, как держит вилку с ножом и насколько бесшумно ест, теперь же Люсьен взгромоздил на стол локти и хлюпает с каждой ложкой, а матери хоть бы что! Да еще Альфонс: сначала самозванно втерся в толпу ожидающих у школы родителей, потом, неизвестно по какому праву, взял его ранец, пригладил волосы, стал расспрашивать, как прошел день, что сказала учительница, какой столбик таблицы умножения и какое стихотворение задали на дом. И дошел до того, что предложил прийти почитать ему перед сном. Люсьен ледяным тоном, как разговаривают со слугами герои исторических фильмов, ответил спасибо, он не нуждается в том, чтобы кто-нибудь заменял ему отца.
Фабьена оставляет ложку в супе и рассматривает ноготь большого пальца правой руки, на котором откололась эмаль. Люсьен, испытующе глядя на нее, рыгает открытым ртом. Фабьена и ухом не ведет. Она во всех деталях представляет себе меня в объятиях Наилы, эта картина смущает ее, но за-ставляет томно улыбаться. И даже вгоняет в краску.
- Я рыгнул, - взывает Люсьен.
- Да-да, молодец, - шепчет она в забытьи. Обиженно выпятив губу, Люсьен хватает всей пятерней
кусок хлеба и принимается крошить его в суп. Брызги летят во все стороны. Мария вносит второе и обалдело смотрит на это свинство.
- Можете идти спать, - сомнамбулически произносит Фабьена. Мария уносит супницу.
Люсьен молча встает из-за стола и идет следом за домашней работницей (мы приучили его не называть Марию прислугой). Фабьена удивлена, но не замечает, чем вызвана такая выходка. Мальчик расстроен, это нормально, надо бы подняться к нему поговорить. Но из комнаты Люсьена уже слышатся электронные трели и взрывы - разговор можно отложить. И Фабьена снова дает волю воображению. Уставясь на жаркое, видит нас с Наилой.