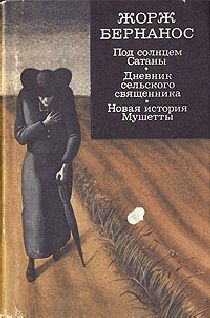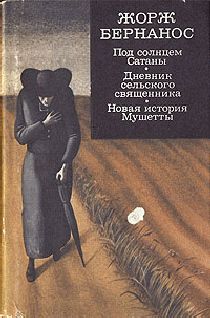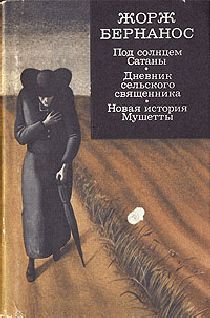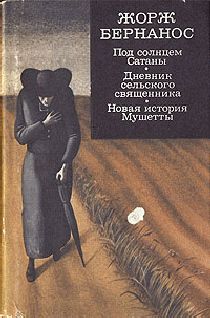Жорж Бернанос - Дневник сельского священника
- Смириться? - сказала она мягким голосом, леденившим сердце. - Что вы понимаете под этим? Разве я не смирилась? Если бы я не смирилась, я бы умерла. Смирение! Да я и так слишком смиренна! Я стыжусь этого. (Ее голос, хотя она и не повышала тона, звучал странно, с каким-то металлическим звоном.) Мне не раз прежде случалось завидовать слабоумным женщинам, которые так и не сумели выкарабкаться. Но такие, как я, замешаны крепко, из песка и извести. Чтобы заставить это несчастное тело забыть, мне следовало убить его. Однако не всякий, кто жаждет смерти, способен покончить с собой.
- Я говорю не о таком смирении, - сказал я, - вы отлично это знаете.
- О каком же? Я хожу к обедне, говею на пасху, я могла бы вовсе не выполнять обрядов, я думала даже об этом. Но я сочла это ниже своего достоинства.
- Сударыня, уж лучше бы вы богохульствовали, чем говорить такое. В ваших словах вся гордыня ада.
Она молчала, уставившись в стену.
- Как смеете вы так говорить о Боге? Вы закрываете ему ваше сердце, и вы...
- Я хоть жила спокойно. Я бы умерла от этою...
- Так не может продолжаться.
Она взвилась, как змея.
- Бог сделался мне безразличен. Какой вам прок, глупец, если вы вынудите меня признать, что я его ненавижу?
- Вы уже не ненавидите его, - сказал я. - Ненависть - это равнодушие и презрение. А вы теперь противостоите друг другу, лицом к лицу. Он и вы.
Она по-прежнему глядела в одну точку, не отвечая.
В этот момент меня охватил неизъяснимый ужас. Все, что я только что сказал, все, что она сказала мне, весь этот нескончаемый диалог показался мне лишенным всякого смысла. И какой разумный человек расценил бы его иначе? Я, безусловно, поддался обезумевшей от ревности и гордыни девушке, мне показалось, я вижу в ее глазах мысль о самоубийстве, жажду покончить с собой, вижу так же явственно, так же отчетливо, как видишь слово, написанное на стене. Но то был внутренний толчок, непроверенный разумом, подозрительный уже в силу самой своей необузданности. И не было никаких сомнений, что женщина, стоявшая сейчас передо мной, как перед судьей, действительно прожила много лет в ужасном оцепенении отверженных душ, которое является самой жестокой, самой неисцелимой, самой бесчеловечной формой отчаяния. Но как раз к этому недугу священник и не вправе подойти без трепета. Я хотел с маху разогреть это оледенелое сердце, озарить беспощадным светом все, вплоть до самого дальнего закоулка совести, которую Господь в своем милосердии пожелал, быть может, оставить пока в спасительном сумраке. Что сказать? Что сделать? Я чувствовал себя как человек, который единым духом взобрался на головокружительную высоту и, открыв глаза остановился, ослепленный, не способный ни подняться выше, ни спуститься вниз.
И тут - нет! Этого невозможно выразить словами, - в то время как я изо всех сил боролся с сомнением, со страхом, ко мне вернулся дар молитвы. Пусть меня поймут правильно: я не переставал молиться с самого начала этого необыкновенного разговора, молиться в том смысле, в каком понимают это слово легкомысленные христиане. Несчастное животное может делать дыхательные движения и под пневматическим колоколом, но что толку! И вдруг воздух вновь со свистом врывается в его бронхи, разглаживает одну за другой складочки тонкой легочной ткани, уже успевшей скукожиться, артерии вздрагивают под напором тарана красной крови - и все его существо напрягается, как корабль, когда паруса, оглушительно грохоча, полнятся ветром.
Она упала в кресло, зажав голову руками. Разорванная мантилья висела на ее плече, она сняла ее мягким движением, мягким движеньем бросила на пол. Я не терял из виду ни одного ее жеста, но в то же время меня не покидало странное ощущение, что мы оба уже не в этом унылом салоне, что комната пуста.
Я увидел, как она вынула из-за выреза блузки медальон, висевший на простой серебряной цепочке. И все с той же мягкостью, которая была ужасней, чем любая ярость, поддела ногтем крышку - стекло отскочило на ковер, она не обратила на это внимания. На кончиках ее пальцев осталась светлая прядь, словно золотистая стружка.
- Вы мне клянетесь... - начала она. Но тотчас прочла в моих глазах, что я все понял и клясться не стану.
- Дочь моя, - сказал я (это обращение само сорвалось с моих губ), - с Господом Богом не торгуются, предайтесь ему, не ставя никаких условий, отдайте ему все, он воздаст вам сторицею. Я не пророк, не кудесник, и оттуда, куда все мы идем, вернулся один он.
Она не возражала, только склонилась еще ниже, я видел, как при каждом моем слове вздрагивают ее плечи.
- Я могу утверждать лишь одно, - нет царства живых и царства мертвых, есть только царство божие, и все мы, живые и мертвые, принадлежим ему.
Я произнес эти слова, мог бы произнести и другие, сейчас это не имело ни малейшего значения! Мне казалось, что чудесная рука разверзла какую-то незримую стену, и в эту брешь ворвался покой, величаво подымаясь округ, как вешние воды в разлив - покой, неведомый земле, сладостный покой мертвых.
- Это мне ясно, - сказала она поразительно изменившимся, но спокойным голосом. - Знаете, о чем я думала минуту назад? Быть может, мне не следует вам в этом признаваться? Так вот, я говорила себе: "Если бы где-нибудь, в этом мире или в ином, было место, где нет Бога - пусть я даже должна там вынести тысячу смертей, умирать ежесекундно, вечно - я унесла бы туда моего (она не осмелилась произнести имя преставившегося младенца)... и я сказала бы Богу: "Ну, насыться! Раздави нас!" Вам это, конечно, кажется чудовищным?
- Нет, сударыня.
- То есть как нет?
- Я и сам, сударыня... Мне тоже случается...
Я не мог договорить до конца. Передо мной стоял образ бедного доктора Дельбанда, он смотрел мне в глаза своим старым, усталым, неколебимым взглядом, в котором я боялся читать. И я слышал, мне казалось, что я слышу в эту самую минуту также стон, вырывающийся из груди стольких людей, стенания, рыдания, хрип - о бедное наше человечество, его отчаянный шепот под гнетом!
- Полноте! - сказала она раздумчиво. - Возможно ли такое?.. И даже дети, невинные малютки с верным сердцем... Вы хоть видели, как они умирают?
- Нет, сударыня.
- Он послушно сложил ручки, он молился так серьезно... я только что пыталась дать ему попить, на его обметанных жаром губах еще была капля молока...
Она дрожала, как лист на ветру. Мне казалось, я один, один стою между Богом и этим созданием, преданным пытке. Грудь моя разрывалась. И все же Господь Бог сподобил меня устоять.
- Сударыня, - сказал я, - будь даже наш Бог богом язычников или философов (для меня это одно и то же) и укройся он в своем небесном чертоге, наши горести все равно низвергли бы его оттуда. Но вы знаете, что Спаситель сам снизошел к нам. Вы можете грозить ему кулаком, плевать ему в лицо, стегать его бичом и в конце концов распять на кресте, что изменится от этого? Все это уже было, дочь моя...
Она не решалась смотреть на медальон, который все еще держала в руке. Я никак не мог предвидеть того, что она сделала! Она сказала мне:
- Повторите то, что вы сказали... об аде... что ад - это больше не любить.
- Да, сударыня.
- Повторите!
- Ад - это больше не любить. Пока мы живы, мы можем тешить себя иллюзией, считать, что любим сами по себе, помимо Бога. Но мы подобны безумцам, протягивающим руки к лунному отражению в воде. Простите меня, я очень плохо выражаю свои мысли.
Она как-то странно улыбнулась, но лицо ее оставалось по-прежнему напряженным, улыбка была мрачная. Она зажала медальон в кулаке и другой рукой прижала этот кулак к груди.
- Каких слов вы ждете от меня?
- Говорите: да приидет царствие твое.
- Да приидет царствие твое.
- Да будет воля твоя.
Внезапно она встала, все так же прижимая кулак к груди.
- Сударыня, - вскричал я, - вы твердили эти слова тысячи раз, но теперь нужно сказать их от глубины души.
- Я ни разу не читала "Отче наш" с тех пор... с тех пор, как... Да вы и сами это знаете, вы все знаете еще прежде, чем вам скажешь, - заговорила она снова, пожав плечами, на этот раз гневно. Потом она сделала жест, смысл которого я понял лишь потом. Лоб ее блестел от пота. - Я не могу, простонала она, - мне кажется, я теряю его во второй раз.
- Царствие, о пришествии которого вы молите, это также и ваше царствие и его.
- Пусть же оно приидет! - Она посмотрела мне в глаза, и мы так стояли несколько секунд, потом она сказала: - Я вверяюсь вам.
- Мне!
- Да, вам. Я оскорбила Бога, должно быть, я его ненавидела. Да, теперь я понимаю, что так и умерла бы с этой ненавистью в сердце. Но вверяюсь я только вам.
- Я слишком ничтожный человек. Вы положили бы золотой в дырявую руку.
- Еще час тому назад моя жизнь казалась мне упорядоченной, все было на своем месте, вы не оставили от нее камня на камне.
- Такой и отдайте ее Богу.
- Я хочу отдать все или ничего, так уж мы, женщины, созданы.
- Отдайте все.
- Нет, вам меня не понять, вы думаете, я уже смирилась. Но того, что еще уцелело во мне от гордыни, хватило бы, чтобы проклясть вас!