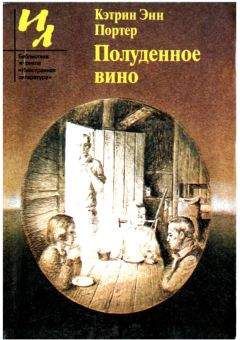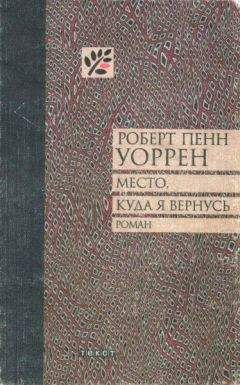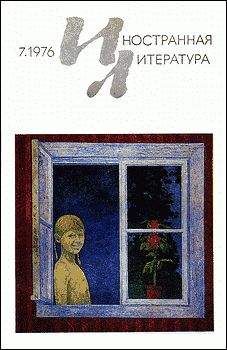Ганс Носсак - Дело дАртеза
Так вот что совершенно ускользнуло от нашего внимания: маленький человек прикрыл глаза, и не потому, что его слепит свет, ибо свет приглушен, а потому, что он спит, и повинна в этом тишина. Как раз на тишину и собирался он обратить внимание жены. Это звучит чуть-чуть сентиментально, но с умирающей женой можно со спокойной совестью быть чуть-чуть сентиментальным. Он как раз собирался сказать: подумай только, повсюду, где бы мы ни жили, было так шумно, что без снотворного не уснешь. Либо по улице грохотали грузовики, либо женщины в квартирах над нами топали взад-вперед по кухне на высоких каблуках. Или радио орало изо всех окон, да в соседних садах пронзительно галдели дети. И что ни вечер, на газонах завывали косилки. И пневматические молотки и буры преследовали нас повсюду. А позже, ночью, реактивные самолеты - они готовились к следующей войне. Кто бы мог подумать, что до тишины рукой подать - она здесь, в больнице. Вот мы ее и обрели. Возможно, маленький человек собирался уже протянуть руку, чтобы выразить жене признательность за тишину, но из-за тишины его добрые, кроткие слова так и остались несказанными - он уснул.
Он спит не храпя, а легко ли это в такой позе? Он спит, не видя снов, к чему маленькому человеку еще и сны? Все эти бессмысленно-мучительные сны, от которых человек, случается, сваливается с кровати. А ведь, пожалуй, надо бы сразу начать со снотворного!
Едва заслышится легкое попискивание резиновых подошв по линолеуму коридора и войдет ночная сестра, нужно только открыть глаза, и ни одна душа не заметит, что ты тем временем спал. Ночная сестра с профессиональной сноровкой склонится над твоей женой, которой не к чему больше выступать в роли Эвридики, снимет телефонную трубку и попросит зайти молодого ассистента, ночного дежурного, чтобы он констатировал этот факт.
А господин Лембке? Где записано, что господину Лембке следует похоронить жену, которая была на полтора сантиметра его выше, в Висбадене? Нигде не записано. А будет записано только задним числом".
8
Господин Глачке, однако же, подозревал наличие у Ламбера тайного передатчика. Повинен в том был протоколист, но он и подумать не мог, что кому-нибудь придет в голову столь вздорная идея.
Объяснялось же все отчетами, которые он обязан был подавать ежедневно. Уже спустя несколько дней после знакомства с Ламбером ему стадо трудно их составлять. Да и что можно сообщить о Ламбере? Его жизненные привычки столь однообразны и неинтересны - и, очевидно, свойственны ему уже так много лет, - что немыслимо говорить о них больше одного раза.
К тому же протоколист был бы немало удивлен, узнай он, что именно томительно размеренный, скучный образ жизни Ламбера возбудил и укрепил подозрения господина Глачке. Читая его отчеты, последний не раз удовлетворенно восклицал "ага!", более того, он даже расхваливал наблюдательность протоколиста.
- Отлично, дорогой мой, отлично! - приговаривал он, потирая руки. Такая уж была у него неприятная привычка. - У этих людей поразительная способность к маскировке. Но уж мы-то разоблачим все их каверзы.
Вначале протоколист в отчетах вкратце излагал содержание своих разговоров с Ламбером, но и они неизменно бывали превратно поняты. Например, то обстоятельство, что при первой встрече они беседовали о естественном праве, господин Глачке истолковал в совершенно неожиданном смысле.
- Естественное право? Ага, это надо взять на заметку. Кодовое обозначение для их подрывных планов. Очень хорошо, дорогой мой.
Через несколько дней отчеты протоколиста стали чуть худосочнее, ибо о беседах, носивших личный или чисто человеческий характер, он не желал писать ни одного слова, поскольку тайной полиции они были ни к чему. Но при этом он впал в ошибку, пополняя свои отчеты подробностями из жизни Ламбера, которые услышал от Эдит, хотя имени Эдит он, разумеется, не называл и вообще не упоминал ее особу.
До того как у протоколиста случился конфликт с господином Глачке, он ни разу не бывал в комнате Ламбера на Гетештрассе и только со слов Эдит, слышавшей это, верно, от отца, узнал, что Ламбер имеет обыкновение ночами подолгу стоять у окна.
- Дядя Ламбер очень одинок, - сказала она. Протоколист не удержался и как последний глупец упомянул в отчете самый факт ночных бдений и добавил: "Видимо, очень одинокий человек".
- Одинокий! - воскликнул господин Глачке. - Не смешите меня! Он - и одинокий. Да он менее одинок, чем вы и я, вместе взятые. Боже, до чего вы наивны! Это так называемое одиночество не что иное, как партизанские уловки. Нам они известны еще с войны. И по ночам у окна стоит, н-да, яснее ясного, что это означает. Очень хорошо, дорогой мой.
Господин Глачке вытребовал специалиста из отдела подслушивания. Протоколист, правда, при встрече не присутствовал, но не питал никаких сомнений насчет содержания их беседы. Когда же его снова позвали, чтобы он описал специалисту комнату Ламбера, ему пришлось сознаться, что сам он в этой комнате не бывал. И тут его, разумеется, спросили, откуда же ему известно о ночных бдениях у окна.
Больше всего опасаясь втянуть в эту историю Эдит, протоколист вышел из положения, сказав, что незаметно выспросил кое-кого - служащих библиотеки и продавщиц из той лавки, где Ламбер покупал хлеб и колбасу.
- Очень хорошо, милейший, - согласился господин Глачке и переглянулся со специалистом из отдела подслушивания. - Это метод верный. Продолжайте в том же духе!
Отговорка протоколиста была и правда до крайности нелепой: откуда было знать продавщицам в гастрономической лавке, что Ламбер стоит по ночам у окна, вместо того чтобы спать. Господин Глачке сделал вид, будто верит ему, но совершенно очевидно, с этой минуты протоколист прослыл за сотрудника неблагонадежного и, как впоследствии выяснилось, сам был взят под наблюдение.
Куда хуже было другое: протоколист сгорал от стыда перед Ламбером и Эдит за свою двойную игру. Должен ли он предупредить Ламбера, что у него в комнате, по-видимому, установят микрофон? Но это значило бы предать свое ведомство. А не сделать этого - разве не предать Ламбера? Что же до Эдит, так по какому праву выслушивал он ее простодушные рассказы об отце? Вот в какое ложное положение попал протоколист, сам того не желая. У кого же спросить совета? Коллег и знакомых у него великое множество, все они премилые люди, с ними приятно в воскресенье совершить загородную прогулку или вечером посидеть за кружкой пива, поболтать о том, о чем весь свет болтает, - о политике и о спорте, о начальниках и о жалованье, о кинофильмах и о девушках, а если кому-нибудь из этих знакомых предстояло обручение или женитьба, событие это праздновали, покупали подарок или цветы. Но не было у него человека, кому можно было бы довериться, нет, этого он не мог себе позволить, добрые знакомые глянули бы на него с удивлением и в лучшем случае сказали бы: видно, пришло тебе время обзавестись девицей. Чего уж тут, спрашивается, искать совета, все у него в полном порядке: он сдал экзамены, защитил диплом, состоит на государственной службе с хорошими видами на будущее, ему двадцать семь и оставалось только жениться, чего же еще? Тут и решения принимать нет надобности, а раз все так поступают и считают за правильное, значит, ты наперед не прав, если сомневаешься и желаешь чего-то особенного. Да и в самом деле, протоколист до сей поры тоже ни минуты не сомневался, что и ему следует поступать в точности так, как поступали другие.
В ту пору протоколист еще не знал, что Эдит, которая была на пять лет моложе, уже однажды оказалась перед необходимостью принять подобное решение и приняла его совершенно самостоятельно. Даже с Ламбером она предварительно не посоветовалась, да и с отцом навряд ли, а уж у матери в Алене наверняка не просила совета и во всем сама разобралась. Если бы протоколист знал эту историю, она ему очень и очень помогла бы, по как раз с Эдит он чувствовал себя стесненным, ибо так уж случилось, что именно ему вменили в обязанность навести справки об ее отце. Нечто подобное испытывал протоколист и в отношении Ламбера. Ламбер - что и вовсе было для пего ново - оказался первым человеком зрелого возраста, которому он, протоколист, охотно доверился бы, однако именно это было ему заказано: ведь господин Глачке поручил ему наблюдение за Ламбером. Впоследствии, когда решение пришло столь внезапно, что протоколист, хоть решение и было верное, еще не собрался для него с силами и впал в постыдное сомнение, вдруг обнаружилось, что касательно Ламбера его совесть в смысле двойной игры может быть спокойна. Ибо Ламбер с первой же минуты видел его насквозь. Чем это объяснить? Ламбер обходил этот вопрос молчанием. Сказал только одно:
- Меня поначалу забавляло водить вас и ваше ведомство за нос, но уже на следующий день мне стало вас жаль, меня даже возмутило, что над вами так измываются.
Однако он тогда и виду не подал. И это тоже для него характерно. На одном из оставшихся после его смерти клочков имелась запись: "Попытка жить двумя правдами ведет к безвременному выключению из жизни". Протоколист цитирует по памяти. Эдит, прочтя эту запись, наморщила лоб и спросила: что же хотел дядя Ламбер сказать? Пожалуй, решила она, это замечание выражает его отрицательное отношение к браку и женитьбе, однако протоколист, указав на дату, рассудил, что заметка довольно старая, скорее, в ней выражена мысль, что быть в одно время и Лембке и Ламбером невозможно. Записку положили к другим бумагам в коричневый пакет. Эдит и протоколист в ту пору избегали обсуждать подобные вопросы; не потому, что Ламбер умер, а потому, что предстоял отъезд протоколиста и обоим, естественно, было чуточку грустно от неопределенности их будущего.