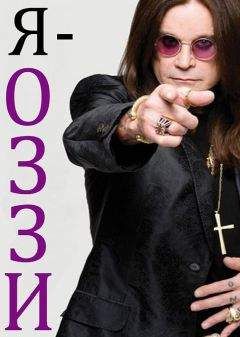Чарльз Диккенс - Письма 1833-1854
Остаюсь преданный Вам.
114
К. К. ФЕЛТОНУ
Лондон, Девоншир-террас,
Йорк-гейт, Риджент-парк,
воскресенье, 31 июля 1842 г.
Никогда еще, дорогой Фелтон, на голову несчастных смертных не сваливалось такого чудовищного количества несметных забот. Никакой гений... никакое перо... не в состоянии перечислить все обеды, что меня заставили съесть, описать все места, где мне пришлось побывать, живописать то море дел и удовольствий, в которое я должен был погрузиться.
Посему сочиняю ужасно короткую и безумно скучную эпистолу об американце Дандо. Но Вы, наверное, не знаете, кто такой Дандо. Так вот, дорогой Фелтон, Дандо был пожирателем устриц. Он заходил в лавку продавца устриц, не имея ни фартинга в кармане, и, стоя у прилавка, принимался уничтожать моллюсков, пока хозяин, открывающий для него раковины, вдруг в ужасе не опускал нож, делал несколько шагов назад, шатаясь, и, стукнув себя ладонью по бледному лбу, не восклицал: "Так ты - Дандо!" Он съедал по двадцать дюжин за один присест, но мог бы съесть и сорок, если бы торговца устриц вдруг не озарял свет истины. За такие преступления его часто сажали в исправительный дом. И вот однажды он заболел в тюрьме, ему становилось все хуже и хуже, и наконец смерть громко постучалась в дверь его камеры. У кровати Дандо стоял доктор, считая его пульс. "Он умирает, - сказал доктор.- Я вижу это по его глазам. И во всем мире есть только одна вещь, которая может отсрочить его смерть на один час. Это - устрицы!" Немедленно принесли устрицы. Дандо проглотил восемь штук и с трудом взялся за девятую. Но он не стал глотать ее и посмотрел вокруг себя странным взглядом. "Недурна, а?" - спросил доктор. Больной покачал головой, провел дрожащей рукой по животу, быстро проглотил устрицу и упал на кровать мертвый. Дандо похоронили во дворе тюрьмы и украсили его могилу раковинами.
Мы все живы и здоровы. Часто говорим о том времени, когда вместе с мистером Фелтоном и доктором Хоу сможем в будущем году переплыть океан. Завтра мы на два месяца уезжаем к морю. Я все время жду вестей от Лонгфелло. Как мне будет приятно узнать, что он возвращается в Лондон и приедет в этот дом!
Я самым решительным образом объявляю войну газетам, которые занимаются разбоем средь бела дня, незаконно перепечатывая чужие произведения, и надеюсь, что после следующей сессии парламента их ввоз в Канаду будет запрещен. Кажется, первый раз за всю историю человечества английские литераторы намереваются объединиться и действовать в этом вопросе сообща. Неплохо хотя бы проучить негодяев, если уж не остается ничего другого, и я надеюсь, что таким способом мы можем заставить их немного поумнеть...
Жаль, что Вас не было это время в Гринвиче. Несколько друзей устроили здесь в мою честь небольшой обед, где были только свои (от официальных обедов я должен был отказаться). Наша встреча привела Крукшенка в дикий восторг, и, пропев все известные ему морские песенки, он завершил наш вечер, проехавшись все шесть миль до дому в моем маленьком открытом фаэтоне _вниз головой_ к неописуемому восторгу и негодованию лондонской полиции. Мы все очень веселились, и я поднимал тосты за Ваше здоровье с величайшим воодушевлением и энтузиазмом.
Когда мы возвращались домой, я основал на пароходе клуб под названием "Общество бродяг" к большому удовольствию всех пассажиров. Это святое братство совершало тысячи всяких глупостей и всегда обедало отдельно от всех за одним концом стола на шканцах, причем обед проходил в необычайно торжественной обстановке с соблюдением великого множества обрядов. Когда через три или четыре дня после начала нашего путешествия заболел капитан, я достал свою аптечку и вылечил его. Потом заболело еще несколько человек, и я каждый день с важным видом навещал своих "пациентов" в сопровождении двух "бродяг", одетых под Бена Эллена и Боба Сойера * и вооруженных парой огромных ножниц и ужасающим количеством пластыря. Всю дорогу было очень весело. В Ливерпуле мы все вместе позавтракали, обменялись рукопожатиями и расстались, как самые добрые друзья...
Искренне Ваш.
P. S. Я просмотрел свои дневники и решил издать заметки о путешествии по Америке в двух томах. После нашего возвращения я уже написал половину того, что должно войти в первый том, и надеюсь закончить все к октябрю. Эту "новость по секрету", дорогой Фелтон, Вы можете сообщить всем, кого считаете достойным такого доверия.
115
ДЖОНУ ФОРСТЕРУ
Бродстэрс,
16 сентября 1842 г.
...Вообще глава о Филадельфии очень хороша, но, к сожалению, после напечатания она стала мне нравиться гораздо меньше. Американские газеты нагло утверждают, что подделанное ими письмо с моей подписью * было опубликовано в "Кроникл" вместе с открытым письмом об авторском праве, где я якобы в самых неподобающих выражениях отзываюсь об обедах и пр. Письмо получило широкую огласку в Штатах. Что и говорить, негодяй, написавший его, "парень не промах". Вы понимаете, конечно, что дело это совсем не шуточное, тем более что в газетах поднялась по этому поводу самая непристойная шумиха. Мистер Парк Бенджамин начал свой "вдохновенный" опус на эту тему словами: "Диккенс - лжец и негодяй"... У меня сейчас новый протеже - несчастный глухонемой мальчик, которого я на днях нашел еле живым на берегу и пока поместил в приходскую больницу. Бедняжка, он в таком ужасном состоянии...
Какие блестящие проявления безмерной человеческой подлости и низости наблюдал я вчера на скачках на Айл-оф-Тенет!.. Я собираюсь начать новую вещь, где действие будет происходить в Корнуолле, в какой-нибудь ужасно мрачной деревушке, затерянной на побережье среди скал. К концу следующего месяца я надеюсь закончить "Американские заметки", и тогда мы вместе с Вами отправимся в эти унылые места...
116
ФИЛИПУ ХОУНУ *
Англия, Кент, Бродстэрс,
16 сентября 1842 г.
Дорогой сэр, я чрезвычайно благодарен Вам за Ваше дружеское письмо, которое доставило мне истинное удовольствие. Вчера мне переслали его из Лондона сюда, в этот маленький и тихий рыбачий городок на берегу моря, где мы пробудем до конца этого месяца. Я пишу Вам ответ, не медля ни минуты, хоть и боюсь, что письмо мое может пролежать на почте несколько дней, пока придет пароход, чтобы перевезти его через океан.
Каждая точка и запятая, каждая буква и строка - одним словом, все от начала до конца в письме, о котором Вы мне рассказываете, - злобная и низкая ложь. Я не напечатал ни одного слова, ни одной строки о своей поездке в Америку, кроме открытого письма о международном авторском праве, и негодяй, измысливший эту отвратительную клевету и заслуживающий смертной казни через повешение, знает это так же хорошо, как и я. Это событие ужасно расстроило меня, вызвав тайное желание схватить кого-нибудь за горло, что вряд ли приличествует джентльмену. Но я не дал публичного опровержения, считая, что подобного рода действие было бы недостойным и отнюдь не возвысило бы меня в собственном мнении. Я надеюсь послать Вам в следующем месяце свои "Американские заметки". Передайте искренний привет всем друзьям.
С уважением...
117
КАПИТАНУ МАРРИЕТУ *
Девоншир-террас,
13 октября 1842 г.
Мой дорогой Марриэт, большое спасибо за Вашу превосходную книгу, благодаря которой я целых три дня то посмеивался, то ухмылялся, то сжимал кулаки, исполняясь воинственного духа. Я все откладывал Вам писать, так как хотел заодно послать Вам и свои американские книжки. Однако этого я не могу сделать до вторника и пока ограничиваюсь этой благодарственной и поздравительной записочкой. Преданный Вам.
Стэнфилд * сообщил мне, что вы завели обычай пить холодную воду с утра. Я тоже. Один из наших колодцев высох, второй высыхает. Столько я выпил воды!
118
ДЖОНАТАНУ ЧЕПМЕНУ
Девоншир-террас,
15 октября 1842 г.
Мой дорогой друг,
Я от души обрадовался, увидя Ваш почерк на письме, которое привезло кунардское судно. И от души радовался, читая его, - тем более что из него явствует, что Ваше доброе чувство ко мне заставляет Вас тревожиться за меня гораздо сильнее, чем Вы когда-либо, верно, беспокоились о себе самом.
Поставьте на место американской публики (или большей части ее) какого-нибудь одного человека. Если бы Вы знали, что можете удержать дружбу этого человека, пожертвовав всем, что дает Вам право на самоуважение, если бы Вы должны были хранить робкое молчание, не решаясь высказать правду, и всякий раз, перед тем как открыть рот, задумывались бы, словно перед Вами заболевший родственник: "А это он проглотит? Не рассердится, если я скажу то-то и то-то? А вдруг, если я поступлю так-то, он поймет, что я не игрушка, созданная для его развлечения?"
Неужели Вы пытались бы удержать его дружбу на таких условиях хотя бы один день? Нет - или я Вас плохо знаю. Вот и я так. Радушный прием, который был оказан мне в Америке, я приписываю тому, что мне удалось позабавить ее читателей и расположить их в свою пользу тем, что я делал, а отнюдь не тем, что я обязался чего-то не делать. Поэтому я считаю себя вправе писать об этом народе, и писать так, как считаю нужным. И если ни надежды заслужить одобрение, ни честолюбие никогда не мешали мне указывать на злоупотребления в своем отечестве, то и здесь, в этой глухой стране, никакое общественное мнение не заставит меня уклониться от цели и указать, если я найду нужным, на те недостатки, какие я замечу. Пусть вследствие своей честности я навлеку на себя гнев капризной и непостоянной толпы, пусть на мою голову посыплются оскорбления - какое мне до этого дело? Какое дело до этого Вам? Какое до этого дело настоящему человеку, если он убежден в своей правоте и может спокойно взирать на беснующуюся толпу и посвистывать в ответ на ее шиканье?