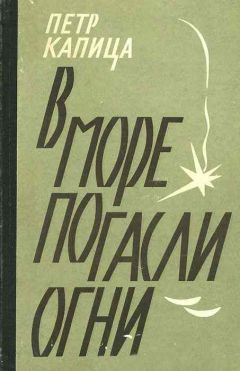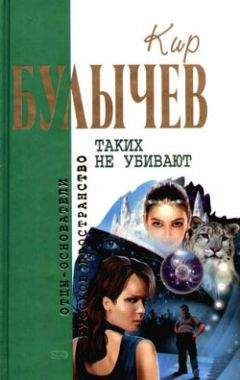Мария Романушко - Наши зимы и лета, вёсны и осени
Уже засыпая: «Давай скорее улетим на Маль… На Мале нет этих садиков, и мамам не нужно ходить на работу. Там люди просто живут…» – «Хорошо бы, сынок…»
Пошла всего вторая неделя, как я ходила на работу, но жизнь утратила свои привычные краски и запахи. Остался только мышиный запах архива, этой тёмной сырой норы, в которой я сидела долгими осенними днями, согнувшись над каталожными ящиками, остался тошнотворный запах пригорелого молока, от которого мы оба содрогались каждое утро, входя в двери детсада, остался горький запах догорающих костров нашей пятой осени… А из всех красок – только зеленоватая бледность твоего лица с глубокой синевой под глазами, да чернеющие листья на мокрой дорожке, по которой я каждое утро уходила от тебя. Куда?… Зачем?…
В детсаду тебе по-прежнему не давали проходу, по-прежнему «стукали». И наконец твоё терпение лопнуло. Устав от пинков и тумаков, ты стал давать сдачи.
Однажды, придя за тобой, увидела, что все играют, а ты стоишь… в углу! И при этом мило беседуешь с Любовью Петровной.
– Не могу понять, что с ним случилось такое, – развела она в растерянности руками. – Такой тихий всегда был… А тут Ваню побил, Лену ударил. Она, конечно, задира… но всё-таки девочка. Вот, пришлось изолировать.
– Так хорошо в углу отдохнул, – сказал ты. – Никто меня там не стукал.
– Научился давать сдачи? – спросила я, не зная, радоваться этому, или огорчаться.
– Пришлось, – улыбнулась ободряюще Любовь Петровна. – А иначе ведь заклюют. Им ведь только подраться, только бы поколотить кого-нибудь. Возраст такой. Энергии много, а ума мало. Ничего их не интересует, только драка.
Мы идем под моросящим дождем, идем к дому, где нас никто не ждет, и ты спрашиваешь:
– Ну, как твоя работа? Сколько карточек сегодня насчитала?
– Не спрашивай, Антончик. Они у меня перед глазами до сих пор мелькают… Расскажи лучше, как ты жил.
– Сегодня нам на завтрак давали такую кашу… Ее волшебная птица варила.
– Ну, и как, вкусная?
– Вкусная… – неуверенно говоришь ты. – Только я её всё равно вырвал.
Мы медленно идем к дому под моросящим дождем, в моей руке твоя маленькая горячая рука, и уже от этого я чувствую себя почти счастливой. Почти…
Я сжимаю её так крепко, словно боюсь потерять тебя, так крепко, что ты невольно вскрикиваешь:
– Ой, больно!
– Прости, сынок…
Медленно идем под моросящим дождем, по пустынной аллее, по мокрому тротуару, по жёлтым, по красным, по чёрным пятнам палой листвы…
Ты говоришь:
– Сегодня на занятии был великий расспрос: кто кем будет, когда вырастет?
– И что ребята отвечали?
– Кто-то милиционером, кто – солдатом. Девочки портнихами захотели быть. Кто-то ещё кем-то, не помню…
– А ты?
– А я сказал: «Хочу быть писателем».
И, помолчав, добавил:
– И меня побили.
– За что?
– Не знаю.
– Но ты хоть защищался?
– Конечно. Только они сразу со всех сторон бьют.
– Их было много?
– Трое. Ваня Антоненко и ещё двое какие-то.
– Ты что же, не знаешь, как их зовут?
– Не помню… Они все одинаковые. Такие у всех лица круглые, как яйцо.
– А Ваню как запомнил?
– Он самый злой.
Ты говорил это почти спокойно, и твоё спокойстве пугало меня больше, чем слезы: ты начинал привыкать – к тому, что бьют, к тому, что их всегда больше…
– А я про этого Ваню стишок сочинил! – неожиданно весело сказал ты. – «Стихи про Ваню Антоненко». Слушай!
Надоел мне этот Ваня,
Не могу я вам сказать!
Я считать могу всего лишь:
Раз, два, три, четыре, пять!
А потом начну считать я
До двух тысяч восемьсот!
Чтобы кушать очень много,
Я тебе не бегемот!
Я тебя могу так стукнуть,
Даже Ваня упадет!
У меня больной желудок,
Не могу я много есть!
Я считать уже умею
И могу сто книг прочесть!
Обойдусь я и без драки
И без Вани-забияки!
Ты звонко напевал свой стишок, идя вприпрыжку по мокрой дорожке. Я смотрела на твоё худенькое задорное лицо, и думала о том, что всё равно ты сильнее их, сколько бы их ни было!
– А когда ты будешь книгу про Клоуна писать? – неожиданно спрашиваешь ты.
– Ох, Антончик… Не знаю. Ни на что теперь нет времени.
– Давай я твои карточки все быстро-быстро посчитаю!
– Милый ты мой!…
* * *
…Было ветрено и зябко. Ты сидел на веранде, грустно глядя на хлопающую калитку сада… Увидев меня, ты не бросился, как обычно, мне навстречу, а остался всё в той же позе нахохленного воробышка.
– Что с тобой, сынок?
– Так…
Я коснулась губами твоего лба – он был горячий.
– Что-то уж больно скучный он сегодня, – послышался голос
Евдокии Васильевны. – Всё сидит и сидит молчком, даже про Самлюмбию свою не рассказывает.
Она возникла рядом тучным облаком, и от её присутствия стало душно.
– Самболюнию, – тихо поправил ты, не взглянув на неё.
– Пойдем, сынок?
Ты нерешительно поднялся с лавочки, как во сне, с тоской посмотрел на меня, и я поняла, что ты совсем болен. Я подхватила тебя на руки и понесла домой. Ты утомленно прикрыл глаза и уткнулся лицом в моё плечо.
– Совсем плохо, сынок?
– Не совсем… – еле слышно прошептал ты.
Дома, едва успела раздеть и уложить тебя в постель, как мучительная дрожь охватила тебя, тельце покрылось гусиной кожей, ты скрутился калачиком под двумя одеялами, но они не могли тебя согреть. Ртутный столбик в градуснике, сунутом тебе под мышку, мгновенно ускочил за сорок… Господи, что же это?! «Сынок, побудь без меня минуточку, я сейчас… я быстро… за врачом…»
Выбежала из подъезда – и не поверила своим глазам: на аллейке у нашего дома стояли и оживленно беседовали две женщины, одна из них – твой участковый врач. Я бросилась к ней, не помня себя от радости и отчаянья:
– Зоя Петровна! Какое счастье, что вы здесь! Антоше плохо… Пожалуйста, помогите!
Она удивленно взглянула на меня, не понимая, чего я от нее хочу.
– Простите, что отрываю, но ему совсем плохо…
Недоумение на её лице сменилось нескрываемым раздражением.
– Мой рабочий день уже кончился, – отчеканила она.
– Умоляю, взгляните на него, ведь это одна минута… – с содроганием услышала я в своем голосе жалкие, просительные ноты.
Но она уже отвернулась к своей приятельнице, и они продолжали прерванную мной беседу.
– Что же мне делать?!
– Вызывайте «скорую», – бросила через плечо она.
– Но ведь вы здесь, рядом!
Она даже головы не повернула в мою сторону.
Я бежала к телефону-автомату; душили слезы…
* * *
…Ты болел долго и тяжело. Уже облетела вся наша пятая осень, почернело под дождями её золото, уже белые мухи кружились по утрам за нашими окнами, а ты всё никак не мог прийти в себя…
Вначале за тобой ухаживала бабушка, которая очень боялась, что моё архивное начальство будет недовольно тем, что мы с тобой сразу заболели. Но бабушка не могла быть с тобой бесконечно: у неё было своё строгое начальство. Я сменила ее, и мы узнали, что значит «сидеть на больничном» (пять дней на бюллетене и месяц на справке), мы узнали, каково получить зарплату 5 рублей 20 копеек!
– Ого, как много! – обрадовался ты.
Но мне пришлось тебя огорчить.
– Возьми бумагу и карандаш, – сказала я тебе, – и подсчитай, сколько мы тратим в месяц на хлеб и молоко. Приблизительно.
Произведя подсчет, ты растерянно, почти испуганно взглянул на меня: «Как же мы будем жить?»
– Бабушка, надеюсь, выручит, а вообще… Не можем же мы сидеть на шее у бабушки.
– Не можем, – согласился ты.
Уже кружились по утрам белые мухи…
При одном воспоминании о детсаде у тебя подскакивала температура и тебя начинало лихорадить. По-прежнему при виде тарелки с едой ты закрывал глаза, рот, уши… По ночам ты порой просыпался в слезах, с криком: «Не надо! Не надо!…»
Врачи, по которым нам пришлось походить за это время, пришли к единому мнению: «Ребенок недетсадовский. В саду он не привыкнет».
Уже кружились за окном белые мухи… Осень, долгая, как жизнь, подходила к концу. И опять вставал всё тот же вопрос: «Как жить дальше?…»
Мир не без добрых людей.
Один из моих институтских преподавателей, прознав про наши беды, поднял телефонную трубку и за полчаса нашёл для меня работу. В одном издательстве мне опять стали давать рукописи на рецензирование. К нашей величайшей радости, я распрощалась с архивом, не успев дослужиться до архивариуса первой категории…
Конец ноября, с его ненастьями, холодным мраком, едва не лопающимися от ветра стеклами, это самое мрачное время года – для нас с тобой самое уютное, уравновешенное, самое творческое. Нам нравится, что поздно светает и рано темнеет, мы оба любим сумерки и снег с дождем… В ненастье хорошо пишется. Я ложусь в два часа ночи, а встаю в шесть утра. Иногда засиживаюсь за машинкой до восьми утра. Ты уже встаешь, а я только ложусь вздремнуть.