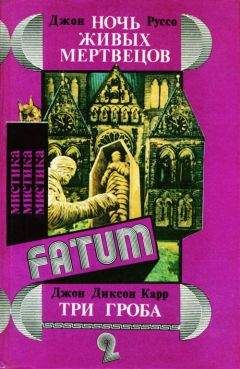Джон Голсуорси - Из сборника Моментальные снимки
Почему мисс Монрой до двадцати шести лет не вышла замуж, оставалось загадкой для окружающих, пока кто-то из них не сообразил, что, обладая редкой способностью наслаждаться жизнью, мисс Монрой попросту не нашла времени для замужества. Исключительное здоровье позволяло ей находиться в движении восемнадцать часов в сутки. Спала она, должно быть, сладко, как ребенок. Легко было себе представить, что мисс Монрой погружалась в сон без сновидений, как только голова ее касалась подушки, и спала безмятежно до тех пор, пока не наступало время вставать и бежать под душ.
Как я уже сказал, Ванесс, вернее, его философия была для меня erat demonstrandum {То, что требуется доказать (лат.).}. В ту пору я был в несколько подавленном настроении. Микроб фатализма, проникший в умы художников и писателей еще до войны, в это тяжкое время распространился еще шире. Способна ли цивилизация, основанная единственно на создании материальных благ, дать человеку нечто большее, чем простое стремление накоплять все больше и больше этих благ? Может ли она способствовать прогрессу, пусть даже материальному, не только в тех странах, где ресурсы пока сильно превышают потребности населения? Война убедила меня, что люди слишком драчливы, чтобы понять, что счастье личности заключено в общем счастье. Люди жестокие, грубые, воинственные, своекорыстные всегда, думалось мне, будут брать верх над кроткими и благородными. Словом, в мире не было и половины, не было и сотой доли того альтруизма, которого могло бы хватить на всех. Простой человеческий героизм, который выявила или подчеркнула война, не внушал надежд: слишком легко играли на нем высокопоставленные хищники. Развитие науки в целом как будто толкало человечество назад. Я сильно подозревал, что было время, когда население нашей планеты, хотя и не такое малочисленное и менее приспособленное к жизни, обладало лучшим здоровьем, чем сейчас. Ну, а если говорить о религии, я никогда не верил, что Провидение вознаграждает достойных жалости несчастных людей блаженством на том свете. Эта доктрина представлялась мне совершенно нелогичной, ибо еще более достойны жалости толстокожие и преуспевающие на этом свете, те, кого, как известно из изречения о верблюде и игольном ушке, наша религия всех оптом отправляет в ад. Успех, власть, богатство, все то, к чему стремятся спекулянты, премьеры, педагоги, все, кому не дано в капле росы увидеть Всевышнего, услышать его в пастушьем колокольчике и чуять в свежем благоухании мяты, казалось мне чем-то вроде гнили. И тем не менее с каждым днем становилось очевиднее, что именно эти люди были победителями в игре, называемой жизнью, были осью вселенной, той вселенной, которую они, с одобрения представляемого ими большинства, успешно превращали в место, где невозможно жить. Казалось почти бесполезным помогать ближнему, ибо такого рода попытки лишь золотили пилюлю и давали повод нашим упорствующим в своих распрях вожакам снова и снова ввергать нас в пучину бедствий. Оттого и искал я повсюду чего-нибудь, во что можно было бы верить, и готов был принять даже Руперта К. Ванесса с его проповедью жизни для наслаждений. Но может ли человек жить только для наслаждения? Способны ли прекрасные картины, редкие фрукты и вина, хорошая музыка, аромат азалий и дорогой табак, а главное, общество красивых женщин давать постоянно пищу уму и сердцу, быть идеалом жизни для человека? Это-то мне и хотелось выяснить.
Всякий, кто приезжает весной в Чарльстон, не преминет, рано или поздно, побывать в Саду Магнолий. Поскольку я художник и пишу только цветы и деревья, я провожу много времени в парках и смею утверждать, что нет в мире уголка более восхитительного, чем Сад Магнолий. Даже до того, как расцветают магнолии, он так хорош, что по сравнению с ним флорентийские сады Боболи, коричные сады Коломбо, Консепсион в Малаге, Версаль, Хэмптон Корт, Дженералиф в Гранаде и Ля Мортола кажутся второсортными.
Никогда еще рука человека не создавала такой буйной и щедрой растительности, таких ярких красок, но вместе с тем что-то меланхолическое и призрачное есть в этом саду. Словно среди пустыни как по волшебству возник земной рай, заколдованное царство. Сияющий цветами азалий и магнолий, он расположен вокруг небольшого озера, над которым склоняются поросшие серым флоридским мхом высокие деревья. Какое-то нездешнее очарование этого места влекло меня, как влекут к себе юношу берега Ионийского моря, неведомый Восток или далекие тихоокеанские острова. Я часами сидел подле сказочного озера, остро ощущая невозможность перенести эту красоту кистью на полотно. А мне так хотелось написать картину, подобную "Фонтану" Элле - она висит в Люксембургском музее. Но я знал, что не сумею.
Однажды в солнечный полдень, сидя у кустов азалий и наблюдая, как чернокожий садовник - настолько старый, что, как мне рассказывали, он начал жизнь рабом и по сей день сохранил приветливость и учтивость негров тех времен - подрезает ветви, я услышал совсем близко голос Руперта К. Ванесса. Он говорил: "Мисс Монрой, для меня не существует ничего, кроме красоты".
Оба стояли, по-видимому, за купой азалий, ярдах в четырех, но видеть их я не мог.
- Красота - это очень широкое понятие. Скажите точнее, мистер Ванесс.
- Один пример дороже целой тонны теоретических рассуждений. Сейчас красота передо мной.
- Вы уклоняетесь от ответа. О какой красоте вы говорили - красоте плоти или духа?
- Что вы называете духом? Я ведь язычник.
- Да? Я тоже. Однако и греки были язычниками.
- Дух всего лишь сублимация чувственных ощущений.
- Вот как?
- Да, мне понадобилась целая жизнь, чтобы убедиться в этом.
- Значит, то настроение, которое навевает на меня этот сад, - чисто чувственное по своей природе?
- Разумеется. Если бы вы были слепы и глухи, не могли бы обонять и осязать, разве оно возникло бы, это настроение?
- Ваши слова приводят меня в уныние, мистер Ванесс.
- Что поделаешь, сударыня, такова действительность. И я в юности строил воздушные замки, мечтал бог весть о чем. Даже писал стихи.
- Правда? И хорошие, мистер Ванесс?
- Плохие. И очень скоро я понял, подлинные ощущения дороже всех возвышенных грез и стремлений.
- Но что с вами будет, когда все ощущения притупятся? - Буду греться на солнышке и медленно угасать.
- Мне нравится ваша откровенность.
- Вы, разумеется, считаете меня циником. Но я не такое ничтожество, мисс Сабина. Циник - это осел и позер, щеголяющий своим цинизмом. А мне гордиться нечем: не вижу оснований гордиться тем, что вижу правду человеческой жизни.
- А что, если бы вы были бедны?
- Тогда мои органы чувств функционировали бы дольше. А когда они бы в конце концов притупились, я бы умер быстрее от недостатка еды и тепла. Вот и все.
- Вы когда-нибудь были влюблены, мистер Ванесс?
- Я сейчас влюблен.
- И что же, в вашей любви нет преданности, нет ничего возвышенного?
- Нет. Она стремится к обладанию.
- Я никогда не любила. Но мне кажется, если бы любила, я хотела бы отдать всю себя, а не только завладеть любимым человеком.
- Вы в этом уверены? Сабина, а ведь я люблю вас.
- О! Ну что, пойдем дальше?
Я услышал их удаляющиеся шаги и снова остался один; только неподалеку у кустов возился садовник.
"Какая исчерпывающая декларация гедонизма! - думал я. - Как проста и убедительна философия Ванесса! Философия почти ассирийская, достойная и Людовика Пятнадцатого!"
Подошел старик негр.
- Хороший закат, - сказал он учтиво хрипловатым полушепотом. - И мух нет.
- Да, Ричард, очень хороший. Вообще здесь чудесное место, лучшее в мире.
- Самое лучшее, - отозвался негр, растягивая слова. - Когда была война, янки хотели сжечь дом. Те, что пришли с Шерманом. Конечно, они сильно рассердились на хозяина за то, что он перед отъездом спрятал столовое серебро. Мой старик отец был у него вроде управляющего. Так вот, янки забрали его. Майор приказывает моему старику: покажи, где серебро. А мой старик посмотрел на него и говорит: "За кого вы меня принимаете? За черномазого труса, за доносчика? Нет, сэр, делайте что хотите со мной и моим сыном, но я не Иуда, и он тоже. Нет, сэр!" А майор велел поставить его у того высокого дуба, вон там, и говорит: "Ах ты, неблагодарный! Ради тебя мы пришли сюда. Пришли, чтобы освободить вас, негров, а ты не хочешь говорить. Отвечай, где серебро, не то, ей-богу, застрелю!" "Стреляйте, сэр, - говорит мой старик, - но я не скажу". Тогда они начали стрелять так, что пули ложились совсем близко от него: хотели запугать. Я тогда был мальчонкой и собственными глазами видел, сэр, как стоял мой старик, храбро этак, как герой. Они не вытянули из него ни слова, сэр. Потому что он любил своих хозяев, очень любил.
Негр улыбнулся, и по его блаженной улыбке видно было, что он не только рад вспомнить еще раз эту семейную легенду, но что он сам встал бы под пули, но не предал бы людей, которых любил.