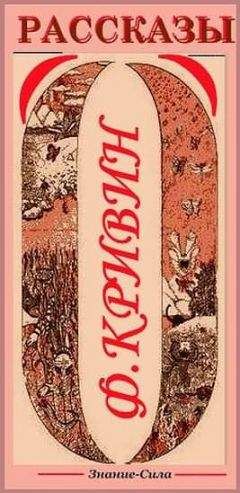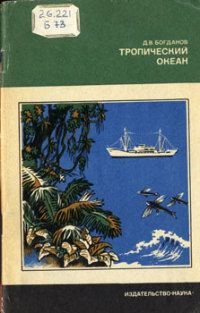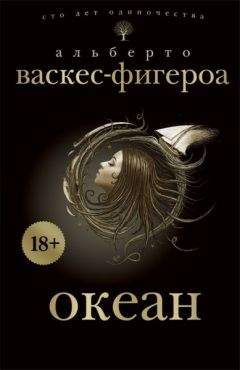Мария Романушко - В свете старого софита
Я стояла на страже. На страже его самого. Его-идеального.
«Но я же живой человек, – оправдывался он. – Могу я устать? Или у меня может быть плохое настроение…»
Я не принимала этих отговорок.
«Играй же, на разрыв аорты!» – кричала я ему в письме, призывая в единомышленники Мандельштама. И Пастернака тоже: «Но будь собой. Собой – и только. Собой – и только, до конца!»
О, какой я была жуткой максималисткой!…
* * *
…Сезон заканчивался. Последние спектакли… Я ходила каждый день.
Загорелась поснимать его в манеже – во время выступления. Но я не могла просто так прийти и в упор фотографировать его. Стеснялась. И не хотела смущать его. Поэтому я изменила свой облик до неузнаваемости. Зачесала гладко назад волосы и загримировалась.
Пришла с фотоаппаратом (взяла у Фёдора на прокат его старенький ФЭД), уселась на ступеньки, почти у барьера, и начала щёлкать без остановки…
Подошла билетёрша и стала объясняться со мной жестами, полагая, что я – иностранка. Почему? Да потому, что только иностранцы вели себя так раскованно и нахально. Билетёрша пыталась объяснить мне, что на ступенях у барьера сидеть нельзя, не положено. Что я должна уйти на своё законное место. А я, жестами и улыбками, убеждала её, что мне хорошо здесь и удобно. Тогда эта привела другую тётечку – видимо, главную, и уже вдвоём они вынудили меня сесть на своё место. А с места фотографировать неудобно, так как впереди торчат головы, много голов, и эти посторонние головы сильно замусорили мою драгоценную плёнку…
А он?… Конечно, девушка с нацеленным на него объективом привлекала его внимание. Он напряжённо всматривался в моё лицо – и… не узнавал! Хотя… может быть…
Нет, всё же не узнал.
– Романушка, ты сдала экзамен по искусству грима на отлично! – сказала Дюшен. – Я бы сама тебя не узнала, если бы встретила на улице.
Так – не узнанной им – я провела две фотосессии.
* * *
Дюшен сказала:
– У тебя такое лицо…
– Какое?
– Удачное для актрисы. С ним можно всё что угодно сделать. Создать любой образ. А под него ты бы могла загримироваться?
– Легко.
Особо и не пришлось что-то делать. Только опустила немного внешние уголки глаз – сделала разрез глаз более армянским. Надела чёрный пиджак, чёрную фетровую шляпу, повязала на шею тёмно-синий платок в белый горошек… Вот и готово!
И я проиграла перед объективом несколько енгибаровских клоунад. Которые знала все наизусть.
…Эти фотографии с лета семидесятого года так и лежат в моём чёрном портфельчике. Енгибаров – в манеже. А я – у себя дома, но в его образе.
Конечно, как я теперь вижу, непохожести больше, чем похожести. Но тогда, в юности, хотелось думать по-другому…
* * *
Шью себе клоунский костюм – смешные брюки в поперечную полоску.
Репетирую по ночам. Втайне от домашних.
Мне почему-то кажется, что мне особо и делать ничего в манеже не нужно. Стоит лишь выйти – и все тут же начнут смеяться. Над моей грустью…
* * *
Ходили с Наташей Дюшен на прослушивание в цирковое училище. На отделение клоунады. Она читала отрывок из Беккета, я – из Ионеско. Она – стихи Цветаевой, я – свои стихи о шутах. Шокировали приёмную комиссию. Они решили, что мы пришли просто эпатировать.
А нам самим было очень смешно: читать на вступительных экзаменах запрещённых авторов!
В списках допущенных до второго тура мы себя не обнаружили. Естественно! Но мы расстроились не очень сильно. У нас было такое шальное настроение, что нас трудно было чем-либо расстроить в то лето…
* * *
13 июля. Мне двадцать лет. Мама с Маришей в Крыму, Фёдор – на даче у друзей. Я жду девчонок. Но ливень – стеной!… С самого утра. Вряд ли кто-нибудь приедет.
И вдруг – звонок в двери! Открываю…
На пороге – мои милые девчонки, промокшие насквозь, с креслом-качалкой! Мне в подарок! Потрясающе! Они знали, что я мечтаю о кресле-качалке. Оно необходимо мне было для одного номера.
Семененко нарисовала мне в тот день афишу: девочку с грустными глазами на жёлтом кленовом листе…
Эта афиша жива до сих пор. На ней изображена девочка с грустными глазами, в больших клоунских башмаках, в смешных брюках в поперечную полоску, с большим чёрным зонтом.
Девочка-клоун на жёлтом кленовом листе…
Была у меня такая реприза. Выходит девочка в манеж, за ней волочится огромный зелёный плащ. Она расстилает плащ на ковре, и выясняется, что это – маленький манеж, зелёный.
Манеж в манеже. Свой манеж. Не общий. Лично её манеж. Её – и больше ничей. А в центре манежа нашит большой кленовый лист.
Это – символ сокровенного, того, что внутри у каждого. Но до времени – скрыто от посторонних глаз.
К сожалению, я не помню, что происходило на этом зелёном манеже… Какая-то смешная сценка, что ж еще могло происходить в манеже? Внешне сценка – смешная, внутри – грустная. В итоге девочку просят убраться с манежа с её нелепым плащом. Она здесь – лишняя, она мешает. Но девочка не уходит.
Она садится в центре своего маленького манежа – своего неприкасаемого мира и начинает медленно заворачиваться в него…
Ещё была реприза со скрипкой. Скрипка взбунтовалась против оркестра. Оркестр играет бравурное вступление – а девочкина скрипка отвечает… ну, к примеру, отрывком из концерта Мендельсона. Я очень любила в то время Мендельсона. И сейчас люблю. Он удивительно современен. А в то время, в двадцать лет, он лучше кого бы то ни было мог рассказать о том, что у меня внутри. И что пытается вырваться наружу…
По сути трагические, мои клоунады и репризы были обставлены очень весело. Было много всяких смешных «корючек», как говорят у нас в цирке… Моя голова была постоянно занята придумыванием этих корючек, то есть одёжек для мысли, которую в неприкрытом виде выпускать на манеж было немыслимо…
* * *
…А кресло-качалка живёт в моём доме уже тридцать пять лет…
Это кресло обожали мои дети, когда были маленькие, сынок и дочка, оно было им и кораблём, и домом, оно напевало им свои скрипичные песенки, стишки и сказки, укачивало их в минуты вдохновения и задумчивости… В нём качались и другие дети, приходя в наш дом…
В его поскрипывании мне слышится музыка того июльского проливного дня, того сумасшедшего лета – 1970 года…
. Уж если быть – так королём!
. Любить – так короля!…
. А он растеряно и зло
. молчит,
. свой сан кляня…
. Рука неверна и лиха –
. как ищущего смерти.
. Вам подсыпают яд похвал
. в вино…
. Король, не пейте!
. Как страшно залюбили Вас, король…
. А Вы –
. любили?…
. Две светлые пустыни глаз –
. молчанья мили…
Мой король – конечно, не сказочный. И не «ахматовский», как упрекали меня некоторые. Мой король – самый что ни на есть настоящий. Весной и летом семидесятого года он ежевечерне выходил на красный ковер – в скрещение прожекторов… Живой, реальный, злой и нежный, веселый и грустный король манежа…
Вы были правы, злой король!
Я не могу без Вас – и часа.
Какая бешеная боль
Вас видеть кратко и нечасто.
По замку бродите один.
Вам одиночество – подруга.
Я погибаю посреди
Тоской очерченного круга.
Зачем, зачем, о злой король,
Вы мне сказали: «Ты вернёшься?»
Какая бешеная боль –
Во сне Вас видеть еженощно…
И задыхаясь от езды,
Упасть – во сне – на руки Ваши!…
И ни луны, и ни звезды
Над силуэтом тёмных башен.
В мои стихи он вошёл, сам того не ведая. Не подозревая, что действует отныне сразу на двух манежах… И на этом – моём – манеже, в ситуациях полуреальных-полуфантастических мы проигрывали с Моим Клоуном ту жизнь, которая не вмещалась на плоскости «сегодняшнего дня»… И поэтому я создавала свою реальность. По своим законам. Здесь – на моём манеже – можно было говорить в полный голос. Здесь – каждый день был единственным и последним…
Я придумала дерзкую роль –
тенью,
местью,
тоской –
за Вами!
Я люблю Вас,
коварный король,
из отравленных лестью залов!
Я люблю Вас – вот вызов мой
и перчатка!
Я жду к рассвету
на Цветном,
у скамьи седьмой…
Ты увидишь –
я буду в светлом.
Я могла б Вас убить, король, –
ради Вас…
Но не станет проще.
Ты не крик мой –
а вечная боль –
весь в пыли и в молве,
как площадь…
Я пришла Вас украсть,
король!
Вас – у Вас.
Не для жуткой страсти,
не из прихоти лёгкой
красть.
Я хочу, чтобы Вы остались –
королём…
– Ну, король,
решайтесь!
* * *
Я не показывала ему ничего из написанного ему. Мне казалось: реальность ЭТОЙ жизни – совершающейся на моём манеже – столь безусловна, столь ощутима для нас обоих, что не нуждается ни в каких (даже стихотворных) подтверждениях.