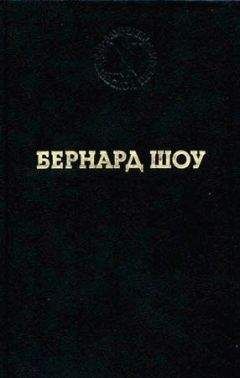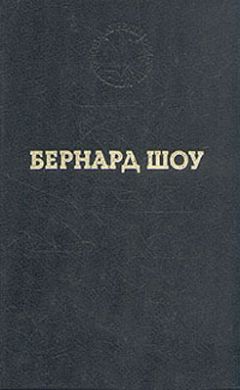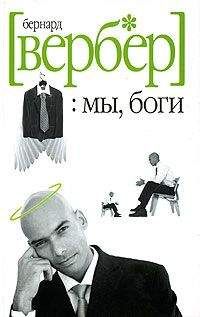Бернард Шоу - Святая Иоанна
Д'Эстиве. Вы слышите, монсеньор, какие надругательства я терплю от этой женщины при исполнении моих обязанностей? (В негодовании садится.)
Кошон. Жанна, я уже предупреждал тебя, что ты только вредишь себе такими дерзкими ответами.
Жанна. Но вы же не хотите говорить со мной как разумные люди! Говорите дело, и я буду отвечать как следует.
Инквизитор (прерывает их). Все это не по правилам. Вы забываете, брат продвигатель, что судоговорение, собственно, еще не началось. Задавать вопросы вы можете лишь после того, как обвиняемая присягнет на Евангелии и поклянется сказать всю правду.
Жанна. Вы мне каждый раз это говорите. И я каждый раз отвечаю: я вам скажу все, что касается до этого суда. Но всю правду я не могу вам сказать: Бог не велит мне открывать всю правду. Да вы бы и не поняли, если б я сказала. Есть старая поговорка: кто чересчур часто говорит правду, тому не миновать виселицы. Мне надоел этот спор; вы уже девять раз за него принимались. Довольно я присягала. Больше не буду.
Курсель. Монсеньор, ее надо подвергнуть пытке.
Инквизитор. Ты слышишь, Жанна? Вот что бывает с теми, кто упорствует. Подумай, прежде чем ответить. Ей уже показывали орудия пытки?
Палач. Все готово, монсеньор. Она их видела.
Жанна. Хоть на куски меня режьте, хоть душу мне вырвите из тела, все равно ничего из меня не вытянете сверх того, что я уже сказала. Ну что мне еще сказать, чтобы вы поняли? А кроме того, я боюсь боли. Если вы сделаете мне больно, я что хотите скажу, только б меня перестали мучить. Но потом от всего откажусь. Так какой же толк?
Ладвеню. Это, пожалуй, верно. Лучше действовать мягкостью.
Курсель. Но ведь всегда применяют пытку.
Инквизитор. Нет. Только когда в том есть необходимость. Если обвиняемый по доброй воле сознался в своих заблуждениях, применение пытки неоправданно.
Курсель. Но это же против правил и против обычая. Тем более что она отказалась присягать.
Ладвеню (с отвращением). Вам что, хочется ее пытать ради собственного удовольствия?
Курсель (удивлен). При чем тут удовольствие? Таков закон. Таков обычай. Так всегда делается.
Инквизитор. Вы ошибаетесь, брат продвигатель. Так поступают только те следователи, которые плохо знают законы.
Курсель. Но эта женщина еретичка. Уверяю вас, всегда в таких случаях применяют пытку.
Кошон. Ну а сегодня не будут, если в том не встретится необходимости. И довольно об этом. Я не желаю, чтобы про нас говорили, будто мы силой вынудили у нее признание. Мы посылали к этой женщине наших лучших проповедников и докторов теологии, они увещевали и умоляли ее спасти от огня свою душу и тело. И мы не пошлем к ней палача, чтобы он снова тащил ее в огонь.
Курсе ль. Конечно, вами руководит милосердие, монсеньор... Но это очень большая ответственность - отступать от принятых форм!
Жанна. Экая ты балда, братец. По-твоему, как в прошлый раз делали, так, значит, и всегда надо?
Курсель (вскакивает). Распутница! И ты смеешь называть меня балдой?..
Инквизитор. Терпение, брат, терпение. Боюсь, что скоро вы будете слишком жестоко отомщены.
Курсель (бормочет). Балда! Хорошенькое дело! (Садится, очень сердитый.)
Инквизитор. А пока что не надо обижаться на всякое резкое слово, какое может слететь с языка пастушки.
Жанна. А я вовсе не пастушка. Дома я, конечно, присматривала за овцами, как и все. Но я умею делать и самую тонкую женскую работу - прясть и ткать, не хуже любой горожанки.
Инквизитор. Сейчас не время для суетных мыслей, Жанна. Ты в опасности, в ужасной опасности.
Жанна. Я знаю. За что же я и наказана, как не за свою суетность? Кабы я, выходя на бой, не надела, как дура, свой плащ из золотой парчи, никогда бы тому бургундцу не удалось сдернуть меня с седла. И я сейчас не сидела бы здесь.
Капеллан. Если ты так искусна в женских рукодельях, почему ты не осталась дома делать то, что положено женщине?
Жанна. Потому что то дело может делать любая женщина; но мое дело могу делать только я одна.
Кошон. Довольно, господа. Мы тратим время на пустяки. Жанна! Сейчас я задам тебе очень важный вопрос. Подумай, как на него ответить, ибо от этого зависит твоя жизнь и спасение твоей души. Согласна ли ты за все свои слова и поступки, хорошие и дурные, безропотно подчиниться приговору Святой Церкви, заместительницы Бога на земле? Это в особенности касается тех речей и действий, в коих обвиняет тебя брат продвигатель, выступающий на этом суде; готова ли ты принять то истолкование, которое, по внушению свыше, придаст им Воинствующая Церковь?
Жанна. Я верная дочь Церкви. Я сделаю все, что Церковь мне прикажет...
Кошон (наклоняясь вперед, с надеждой в голосе). Да?..
Жанна. Если только она не потребует невозможного.
Кошон с тяжелым вздохом откидывается в кресле. Инквизитор поджимает губы и хмурится. Ладвеню горестно качает головой.
Д'Эстиве. Она обвиняет Церковь в безумии и сумасбродстве, будто бы Церковь может требовать невозможного!
Жанна. Если вы велите мне признать, что все, что я до сих пор говорила и делала: все видения, которые у меня были, все мои голоса и откровения все это не от Бога, - ну так это невозможно; этого я никогда не признаю. Что я делала по Божьему велению, от того я никогда не отрекусь; все, что он мне еще повелит, я сделаю и никого слушать не стану. Вот это я и называю невозможным. И если то, что мне прикажет Церковь, будет противно тому, что мне приказал Бог, я на это не соглашусь, что бы оно ни было.
Асессоры (возгласы изумления и негодования). О! Церковь противна Богу! Ну что вы теперь скажете? Жесточайшая ересь! Слыхано ли что-нибудь подобное! (И т.д.)
Д'Эстиве (бросает на стол свои бумаги). Монсеньор! Каких свидетельств вам еще нужно?
Кошон. Женщина! Ты сказала достаточно для того, чтобы десять еретиков послать на костер. Почему ты не хочешь слушать наших предостережений? Как заставить тебя понять?..
Инквизитор. Воинствующая Церковь говорит тебе, что твои голоса и твои видения были посланы дьяволом, жаждущим твоей погибели. Ужели ты не веришь, что Церковь умнее тебя?
Жанна. Я верю, что Бог умнее меня. Его приказ я и выполняю. Все мои преступления, как вы их называете, я совершила потому, что так мне велел Бог. Я уже сказала: все, что я делала, я делала по Божьему изволению. И ничего другого сказать не могу. И если какой-нибудь церковник скажет, что это не так, я ему не поверю. Я верю только Богу, и ему я всегда покорна.
Ладвеню (пытается ее уговорить; умоляюще). Дитя, ты сама не понимаешь, что говоришь. Зачем ты губишь себя? Послушай. Веришь ли ты, что ты должна покорствовать Святой Церкви, заместительнице Бога на земле?
Жанна. Да. Разве я когда-нибудь это отрицала?
Ладвеню. Хорошо. Но не значит ли это, что ты должна покорствовать его святейшему папе, кардиналам, архиепископам и епископам, которых всех замещает здесь сегодня монсеньер епископ?
Жанна. Да. Но сперва Богу.
Д'Эстиве. Ах, так, значит, твои голоса приказывали тебе не подчиняться Воинствующей Церкви?
Жанна. Нет, они мне этого не приказывали. Я готова повиноваться Церкви. Но сперва Богу.
Кошон. И кто же будет решать, в чем твой долг? Церковь или ты сама, своим умом?
Жанна. Чьим же умом мне решать, как не своим?
Асессоры (потрясены). О!!! (Не находят слов.)
Кошон. Собственными устами ты изрекла себе приговор. Мы все делали, чтобы тебя спасти, даже больше, чем имели право: мы снова и снова открывали тебе дверь, но ты ее захлопнула перед нашим лицом и перед лицом Бога. Осмелишься ли ты утверждать после всего тобою сказанного, что ты находишься в состоянии благодати?
Жанна. Если нет, то да поможет мне Бог его достигнуть. Если да, то да поможет мне Бог его сохранить.
Ладвеню. Это очень хороший ответ, монсеньор.
Курсель. Значит, ты была в состоянии благодати, когда украла лошадь у епископа?
Кошон (встает в ярости). Черт бы побрал лошадь епископа и вас вместе с нею! Мы разбираем дело о ереси. И едва нам удалось докопаться до сути, как все опять идет прахом из-за дураков, у которых одни только лошади в голове и ничего больше! (Дрожит от ярости, но усилием воли заставляет себя сесть.)
Инквизитор. Господа, господа! Тем, что вы цепляетесь за эти мелочи, вы только помогаете Деве. Не удивляюсь, что монсеньор епископ потерял терпение. Что скажет продвигатель? Настаивает ли он на этих второстепенных пунктах?
Д'Эстиве. По своей должности я обязан настаивать на всех пунктах обвинения. Но раз эта женщина призналась в ереси, что грозит ей отлучением от Церкви, то какое значение имеет ее виновность в других, гораздо менее важных проступках, за которые полагается и гораздо меньшая кара? Я разделяю взгляд монсеньора епископа на эти второстепенные пункты. Осмелюсь только почтительно указать на два весьма ужасных и кощунственных преступления, в которых Дева виновна, чего она и сама не отрицает. Во-первых; она общалась со злыми духами и, стало быть, повинна в чародействе. Во-вторых, она носит мужское платье, что неприлично, противно естеству и омерзительно. И невзирая на все наши просьбы и увещания, она не соглашается снять мужскую одежду, даже когда принимает причастие.