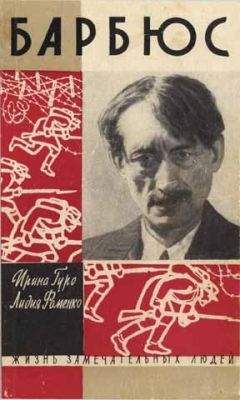Анри Барбюс - Огонь
Паш четырехдневный срок в окопах скоро кончится. К вечеру нас сменят. Мы медленно собираемся. Укладываем ранцы и сумки. Чистим ружья и затыкаем дула.
Четыре часа. Быстро густеет туман. Мы друг друга уже не различаем.
- Черт подери, опять дождь!
Упало несколько капель. И вдруг ливень. Ну и ну! Мы натягиваем на голову капюшоны, брезент. Возвращаемся в прикрытие, шлепая по грязи, пачкая колени, руки, локти: дно траншеи становится вязким. В землянке мы едва успеваем зажечь свечу, поставленную на камень, сбиваемся в кучу вокруг нее и дрожим от холода.
- Ну, в дорогу!
Мы вылезаем. Сырой ледяной мрак. Ветер. Я смутно различаю мощную фигуру Потерло. Мы по-прежнему стоим рядом в строю. Когда мы трогаемся в путь, я кричу ему:
- Ты здесь?
- Да, перед тобой! - кричит он в ответ, оборачиваясь ко мне.
В эту минуту ветер и дождь хлещут его по лицу. Но Потерло смеется. У него такое же счастливое лицо, как и утром. Ливню не лишить его радости, которую он носит в своем крепком, мужественном сердце; мрачному вечеру не погасить солнца, озарившего несколько часов назад его мысли.
Мы идем. Толкаемся. Спотыкаемся... Дождь не перестает, по дну траншеи бегут ручьи. Настилы дрожат на размякшей земле; одни сдвинулись вправо, другие - влево, мы скользим. В темноте их не видно, и на поворотах попадаешь ногой в ямы, полные воды.
В сумерках я слежу за каской Потерло; вода течет с нее, как с крыши; я смотрю на его широкую спину, покрытую куском поблескивающей клеенки. Я не отстаю от Потерло и время от времени окликаю его; он мне отвечает всегда благодушно, всегда спокойно.
Когда мостки кончаются, мы увязаем в грязи. Уже совсем темно. Внезапно мы останавливаемся, и я натыкаюсь на Потерло. Кто-то сердито кричит:
- В чем дело? Подвигайся! Ведь мы отстаем!
- Да я не могу вытащить ноги! - жалобно отвечает другой.
Увязшему наконец удается выбраться; нам приходится бежать, чтобы догнать роту. Мы ставим ноги куда попало, спотыкаемся, хватаемся за стенки и пачкаем руки в грязи. Мы уже не идем, а бежим; раздается лязг железа и ругань.
Дождь усиливается. Вторая внезапная остановка. Гул голосов. Кто-то упал!
Он встает. Мы идем дальше. Я стараюсь идти по пятам за Потерло, следя за его каской; она слабо поблескивает в темноте, время от времени я кричу:
- Ну, как?
- Хорошо, хорошо, - отвечает он, сопя и отдуваясь, но все еще звучным, певучим голосом.
Ранец больно оттягивает плечи, трясется от толчков, от напора стихий. Траншея засыпана недавним обвалом, мы увязаем... Приходится вытаскивать ноги из рыхлой земли и высоко поднимать их. Выбравшись отсюда, мы сейчас же попадаем в какой-то поток. Вереницы людей протоптали две узких колеи; нога застревает в них, как в трамвайном рельсе; иногда мы попадаем в глубокие лужи. В одном месте надо пройти под тяжелым мостом, пересекающим ход сообщения; это очень трудно: приходится стать на колени в грязь, сплющиться, припасть к земле и ползти на четвереньках. Немного дальше приходится подвигаться, хватаясь за кол, который покосился от дождя и загораживает дорогу.
Мы подходим к перекрестку.
- Ну, вперед! Поживей, ребята! - кричит унтер, забившись в углубление, чтобы дать нам пройти. - Это место опасное.
- Сил больше нету, - мычит кто-то таким хриплым, прерывающимся голосом, что нельзя узнать, кто это.
- Тьфу, к черту, дальше не пойду! - говорит другой, задыхаясь.
- А что я могу сделать? - отвечает унтер. - Это не моя вина! Ну, поживей, здесь скверное место. Последнюю смену здесь обстреляли.
Мы идем дальше, среди потоков воды и порывов ветpa. Нам кажется, что мы спускаемся все ниже и ниже в какую-то яму. Скользим, падаем, отталкиваемся. Мы уже не идем, а медленно катимся вниз, хватаемся за что попало. Главное, двигаться прямо, как можно прямей.
Где мы? Наперекор потокам дождя я высовываю голову из бездны, в которой мы барахтаемся. На еле видимом фоне темного неба я различаю край траншеи, и вдруг перед моими глазами возникает какое-то зловещее сооружение: два черных столба склонились друг к другу, а между ними висит что-то вроде длинных спутанных волос. Это портик, который я заметил сегодня днем.
- Вперед! Вперед!
Я опускаю голову и больше ничего не вижу, но опять слышу шлепанье подошв и лязг штыковых ножен, глухие возгласы и прерывистое дыхание людей.
Новый резкий толчок. Мы внезапно останавливаемся; меня опять швыряет на Потерло; я наталкиваюсь на его спину, сильную, крепкую, как дуб, как здоровье и надежда. Он мне кричит:
- Смелей, брат, скоро придем!
Мы не двигаемся. Надо отойти назад... Черт подери! Нет, опять идем дальше!..
Вдруг на нас обрушивается чудовищный взрыв. Я дрожу всем телом; мою голову наполняет металлический гул; запах серы проникает мне в ноздри; я задыхаюсь. Земля подо мной разверзлась. Я чувствую: что-то меня приподнимает и отбрасывает в сторону, душит, почти слепит среди громов и молний... Но я отчетливо помню: в это мгновение, когда, обезумев, я бессознательно искал взглядом моего брата по оружию, я увидел: он широко раскинул руки, его подбросило стоймя, он весь почернел, и вместо головы пламя!
XIII
ГРУБЫЕ СЛОВА
Барк видит: я пишу. Он на четвереньках ползет ко мне по соломе, и вот передо мной его смышленое лицо, рыжий клоунский хохолок, живые глазки, над которыми сходятся и расходятся треугольные брови. Его губы движутся во все стороны: он жует плитку шоколада и держит в руке мокрый огрызок.
Обдавая меня запахом кондитерской, он полным ртом шамкает:
- Послушай... Ты вот пишешь книжки... Ты потом напишешь о солдатах, расскажешь о нас, а?
- Да, конечно, я расскажу о тебе, о всех товарищах и о нашей жизни...
- А скажи-ка...
Он кивает головой на мои записи. Я держу карандаш в руке и слушаю. Барк хочет задать мне вопрос.
- Скажи-ка, пожалуйста... Я хочу тебя спросить... Вот в чем дело: если в твоей книге будут разговаривать солдаты, они будут говорить, как взаправду говорят, или ты подчистишь, переделаешь по-вашему? Это я насчет грубых словечек. Ведь можно дружить и не браниться между собой, а все-таки никогда солдаты не откроют рта хотя бы на минуту, чтобы не сказать и не повторить словечки, которые типографщики не очень-то любят печатать. Так как же? Если в твоей книге этих словечек не будет, портрет у тебя выйдет непохожим: все равно как если бы ты хотел нас нарисовать и не положил бы самой яркой краски там, где нужно. Но что делать? Так писать не полагается.
- Я поставлю грубые слова там, где нужно, потому что это правда.
- Слушай-ка, а если ты их поставишь, ведь разные там ваши господа, которым дела нет до правды, обзовут тебя свиньей!
- Наверно. Но я так и напишу. Мне дела нет до этих господ.
- Хочешь знать мое мнение? Хоть я и не разбираюсь в книгах, - это будет смело, ведь так не полагается; вот будет здорово, если ты так напишешь! Но в последнюю минуту тебе станет совестно: ведь ты слишком вежливый!.. Это даже твой недостаток; я заметил это с тех пор, как знаю тебя. Это - и твою поганую привычку: когда нам раздают водку, ты говоришь, будто она вредна, и, вместо того чтобы отдать свою долю товарищу, выливаешь водку себе на голову, чтоб вымыть патлы.
XIV
СОЛДАТСКИЙ СКАРБ
Наш сарай стоит в глубине двора "Фермы немых", помещение низкое, как землянка. Для нас всегда только землянки, даже в домах! Когда пройдешь двор, где навоз, хлюпая, уходит из-под сапог, или когда обойдешь его, с трудом удерживая равновесие на узкой каменной обочине, и заглянешь в дверь сарая, не видно ничего...
Но, вглядываясь в темноту, смутно различаешь какое-то мрачное углубление, где какие-то черные фигуры сидят на корточках, лежат или ходят из угла в угол. В глубине, направо и налево, дрожит бледное пламя двух свечей, окруженное туманным кольцом, как далекие апрельские луны; при этом свете можно наконец разобрать, что эти глыбы - люди, изо рта которых вылетает или пар, или густой дым.
В этот вечер в нашей берлоге, куда я пробираюсь с предосторожностями, все взволнованы. Завтра утром нас отправляют в окопы, и жильцы сарая начинают укладывать вещи.
В темноте я все-таки избегаю западни: бидонов, котелков и снаряжения, валяющегося на земле, но вдруг натыкаюсь на солдатские хлебы, нагроможденные посреди сарая, словно камни на стройке... Я пробираюсь в свой угол. Там сидит на корточках огромное шарообразное косматое существо в овчине, нагнувшись над кучей мелких поблескивающих предметов. Я хлопаю его по спине. Оно оборачивается, и при мерцающей свече, вставленной в кольцо воткнутого в землю штыка, я различаю часть лица, один глаз, кончик уса и угол приоткрытого рта. Человек благодушно ворчит и опять принимается разглядывать свой скарб.
- Что ты тут делаешь?
- Укладываю. Укладываюсь.
Мнимый разбойник, подсчитывающий добычу, оказывается, не кто другой, как мой товарищ Вольпат. Теперь я вижу, что он делает; он свернул вчетверо полотнище палатки, положил его на постель, то есть на отведенную ему охапку соломы, и на этом ковре разложил содержимое своих карманов.