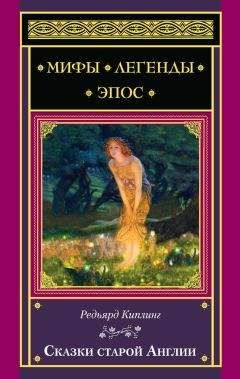Петер Розай - Вена Metropolis
Он подробнейшим образом изучил и разветвленную сеть городской железной дороги и линий метро. Скоро он был уже в состоянии точно сказать, куда ведет та или иная линия, как называются конечные станции, как выглядят кварталы, сквозь которые проложены эти ветки. Особенно занимала его линия электрички, огибавшая озеро Ванзее и проходившая по Груневальду, району вилл. Он частенько стоял, прислонившись к двери вагона, и смотрел на пролетавшие мимо кряжистые дубы и красноватые стволы сосен. Иногда он просто отправлялся бродить по местным лесам.
Почему он поселился на этой улице, в этой квартире в Шарлоттенбурге? Наверняка ведь мог позволить себе нечто получше. Но ему нравилась именно эта неопределенность: квартира была просторная и, собственно, великоватая для него одного. С другой стороны, все в доме, включая и обстановку квартиры, выглядело запущенным.
Еще живя в Париже, он пристрастился к двум вещам. Во-первых, он, хотя и неожиданно для себя самого и как бы сбоку припеку, однажды влился в ряды студенческой демонстрации. Лозунги и плакаты (такие как «Вся власть воображению!» или «Долой буржуазию!») не особенно его занимали. Однако атмосфера, весь настрой, взъерошенный, возбужденный, даже яростный, передался ему и как-то оживил его внутренне. С той поры он не пропускал ни одной листовки на воротах университета. Он стал читать газеты, особенно всё, что касалось демонстраций и политических митингов.
Во-вторых, еще в Париже он пристрастился к выпивке. Пил он не так, как другие студенты, устраивавшие шумные праздники или соревновательные попойки. Он пил в одиночку и пил до тех пор, пока бармен не переставал ему наливать. Если от случая к случаю ему приходилось участвовать в общей пирушке с другими студентами, у него всегда возникало чувство, что он притворяется. Если остальные в компании веселились и чувствовали себя свободно, то он разыгрывал веселье и говорил каким-то чужим, заимствованным голосом, чтобы не выделяться.
Теперь же, в Берлине, уютно устроившись на затхлой улице в своей затхлой квартире, на двери которой он даже не удосужился прикрепить табличку с собственной фамилией, он заинтересовался, поначалу неотчетливо и как-то не всерьез, а потом все более конкретно и пристально, — группой Баадера — Майнгоф и всем, что с нею было связано.
Это была группировка левых радикалов, исповедовавшая принципы вооруженной борьбы, так называемой герильи, партизанской войны, которую вели в ту пору во многих бедных странах, вели чаще всего крестьяне против владельцев крупных латифундий и против организаций, служивших интересам богатых, и вот этот принцип партизанской войны левые собирались распространить на города, на центры и организации богатых стран. Группа Баадера — Майнгоф, названная так по фамилиям двух ее предводителей, именовала себя Фракцией Красной Армии, то есть воспринимала себя как часть огромной интернациональной освободительной армии, которая действовала в разных странах и была в состоянии нанести удар там, где считала необходимым.
Альфреда в этой Фракции заинтересовал не принцип справедливости, которому служили ее бойцы. Не привлекала его и романтика борьбы, которую они вели, вынуждены были вести, подпольно. Прежде всего его восхищало — и ему это виделось чудесно ясным образом — их отношение к смерти: какие бы действия ни предпринимали люди из Фракции — устраивали теракты в универмагах, казармах, на других военных объектах, нападали на известных общественных деятелей, — все это носило отпечаток спокойного презрения к смерти. Они хладнокровно распределяли в обществе смерть и в то же время не делали для себя исключения.
Одно Альфред усвоил хорошо: человек угнетенный не должен сдаваться и покоряться судьбе, а обязан сражаться до последнего. Как маленький зверек, на которого наступили и который чувствует или знает, что он пропал и обречен на смерть, но который все равно кусается и царапается из последних сил. Исходя из этого, из подобного настроя, Альфред был в состоянии понять и политические установки Фракции, и иногда, особенно в сильном подпитии, мысли о несправедливости, царящей в мире, исторгали у него слезы гнева и приводили в состояние сладостного бессилия.
Он бы самому себе наверняка не признался, что является приверженцем и сторонником группы Баадера только из-за этой идеи смерти и из-за притягательности, которую она вызывала. В реальности, то есть фактически, он ведь и пальцем в эту сторону не пошевелил. Он именно теперь стал одеваться намного лучше, чем прежде, заглядывал в магазины элегантной одежды на бульваре Курфюрстендам и приобрел славу завсегдатая в дорогих ресторанах и барах. Деньги Виктории, которая когда-то была «его матерью», пришлись ему весьма кстати.
По утрам, просыпаясь в своей пустой квартире, лежа в постели — на широкой двуспальной кровати с изголовьем, украшенным деревянной отделкой, гармонирующей с мраморным покрытием двух тумбочек справа и слева, кровать эта наверняка была главным украшением буржуазной, мелкобуржуазной спальни, — итак, открывая глаза и разглядывая шелковые кисти, свисавшие с люстры под потолком, он перво-наперво пытался вспомнить, где он был вчера и когда вернулся домой.
Вчера он до трех ночи пил в ресторане гостиницы «Мишель». А потом этот толстый армянин в роскошном пальто с меховым воротником, — странно, он пальто так ведь и не снял, — этот армянин повалился на пол, взял да и свалился рядом со стойкой. На руке золотой браслет, из толстых ниток золота. Мужчина лежал на полу, и браслет на вытянутой руке был особенно заметен.
Взгляд Альфреда скользнул по книгам, брошюрам и газетам, лежавшим подле кровати. Было совершенно ясно, что идея классовой борьбы есть единственно верная идея. Помимо того, что если уяснить себе классовую структуру, то любое общественное устройство становится понятнее, с идеей этой был связан принцип необходимой обороны, оправдывающий борьбу угнетенных с эксплуататорами. Альфред изучал юриспруденцию и поэтому был в состоянии лучше понять следующее: в мысли о необходимой обороне было заложено спасение для тех, кому не повезло в жизни. Серп и молот — эти знаки в меньшей степени были для него символами труда. Скорее они являли собой священные предметы гнева: молотом можно было бить врага, а серпом — резать.
В минуты особой сентиментальности бывало так, что Альфред, лежа ранним утром в постели, брал в руки брошюры, лежавшие рядом с кроватью, — ему особенно нравились их простые, без каких-либо прикрас, обложки, — и прижимался губами к пыльному и потрескавшемуся картону. Потом он вставал, готовил на кухне завтрак и раскладывал на кровати одежду, в которой собирался на утренний променад. Чаще всего он отправлялся в привокзальное кафе на станции «Зоологический сад», где наблюдал за прибывающими и отъезжающими пассажирами. То, что в его поведении было — или могло быть — что-то смешное и комичное, Альфреду никогда не приходило в голову.
Однажды Альфред вновь отправился на электричке в район Ванзее.
Вот это вилла — настоящий образец великолепия! Здание с белым фронтоном и огромной верандой со стороны озера напоминало ему виллы в коттеджном поселке в районе Веринг в Вене, особенно одну из них. Это отдаленное родство было, однако, единственным, что связывало этот дом с прежней жизнью Альфреда, но кто знает, возможно, именно эта приблизительная и случайная деталь в данном случае была решающей.
Берлинская вилла семейства Баллаков располагалась на мыске, вдававшемся в озеро, с точки зрения ландшафта это была часть Груневальдского леса, отделенная от большого лесного массива широкой улицей, застроенной виллами, и железнодорожным полотном электрички, проложенным несколько в стороне, на приличествующем расстоянии.
Когда мы говорим о семье Баллаков и о вилле Баллаков, то мы, с одной стороны, следуем в этом за Альфредом (он так ее потом называл), однако и согласуемся с тем, как ее называл сам владелец, некий Артур Баллак. Так называемое семейство Баллаков состояло, собственно, всего из одного человека, из Артура Баллака собственной персоной. Все это Альфред выяснит с течением времени и в результате усиленных разысканий.
Хотя в этом доме на Ванзее нередко появлялись дамы, причем известные по кино или по театру, или же по избранному берлинскому обществу, бывали здесь также, как водится в таких домах, многолюдные вечеринки, праздники и приемы в саду, — равно как и рабочие приемы в узком кругу, чаще всего в чисто мужском обществе, наверху, в большой столовой, с продолжением в курительном салоне или в библиотеке, — хозяйки в этом доме, госпожи Баллак или госпожи д-р Баллак, не существовало. Артур Баллак не был женат. Детей у него тоже не было.
Этот самый Артур Баллак не был отпрыском старинного рода или какой-нибудь известной семьи. Он был просто сам по себе, и он обязан был всем этим исключительно самому себе: своим красивым, солидным домом на тихой аллее в Груневальде, своим бюро в городе, в районе Шарлоттенбург, в его наиболее живописном месте, на углу Фазаненштрассе и аллеи Курфюрстендам. Там у входа в дом висела, точнее, была привинчена тяжелыми бронзовыми винтами — и эта деталь напоминала Альфреду о Вольбрюках и о профессорской вилле в Веринге, — массивная доска, слегка тронутая убедительной патиной, с надписью: «Д-р Артур Баллак, адвокат».
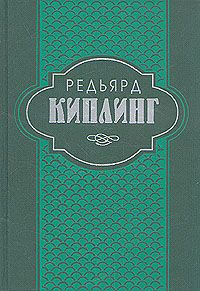
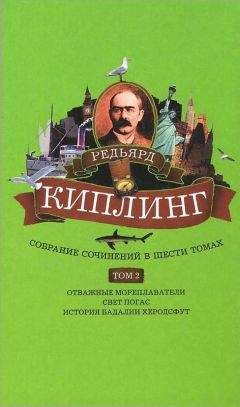
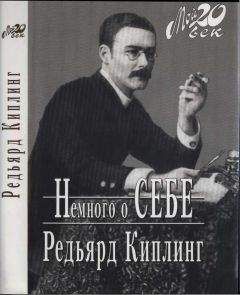
![Редьярд Киплинг - Отважные мореплаватели [Отважные капитаны]](/uploads/posts/books/25655/25655.jpg)