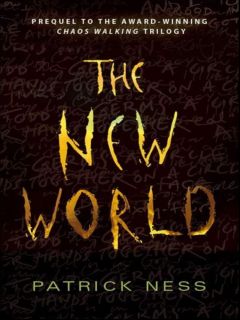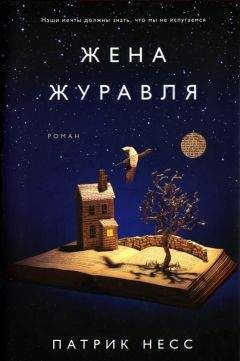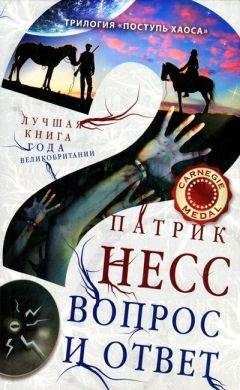Больше, чем это - Несс Патрик
Смотрит прямо на него.
Он вскрикивает, внезапно догадавшись (без тени сомнения, узнавание накрывает, словно океанская волна)…
Он знает, куда попал.
3
Со всех своих измученных ног он бежит по коридору, взметая клубы пыли, он рвется к свету, как…
Как утопающий рвется к воздуху.
До него чуть слышно доносится собственный крик — по-прежнему бессловесный, по-прежнему невнятный.
Но он догадался.
Он догадался, догадался, догадался.
Добравшись до порога, он скатывается с крыльца кубарем, потому что ноги почти не держат, а потом и вовсе подкашиваются. Он валится на колени и не может подняться, словно придавленный к земле своей внезапной догадкой.
Он в панике оглядывается на дом — сейчас оттуда что-нибудь (кто-нибудь!) выскочит, сейчас его догонят…
Нет, никого и ничего.
Все тихо. Ни звука — ни машин, ни людей, ни зверей, ни насекомых — ни-че-го. Только тишина, но такая гулкая, что слышно, как стучит в груди сердце.
«Мое сердце». Слова наконец отчетливо проступают через плотный туман в голове.
Сердце.
Мертвое сердце. Утонувшее сердце.
Его начинает трясти от накатившего осознания, что же такое он увидел в доме и что это значит.
В этом доме он когда-то жил.
Дом из далекого прошлого. Дом в Англии. Дом, в который, мама клялась, она больше ни ногой. Дом, из которого они сбежали на другую сторону земного шара.
Но этого не может быть. Он не видел этот дом — эту страну — уже целую вечность. С младших классов.
С тех пор…
С тех пор, как брата выписали из больницы.
С тех пор, как случилось страшное.
«Не надо!»
Пожалуйста, не надо!
Теперь понятно, куда он попал. Понятно, почему именно сюда, почему именно тут ему положено очнуться после…
После смерти.
Это ад.
Ад, устроенный специально для него.
Ад, где он будет один.
Навсегда.
Он умер и очнулся в собственном, персональном аду.
Его рвет.
Он плюхается на руки, выворачивая содержимое желудка в придорожные кусты. От натуги на глазах выступают слезы, но все равно видно, что рвет его какой-то непонятной прозрачной слизью с легким сахарным привкусом. Все, больше рвать нечем. Поскольку глаза и так мокрые, нетрудно и разреветься. Он рыдает, уткнувшись лбом в бетонную дорожку.
По ощущениям похоже, будто снова тонешь: так же печет в груди, так же борешься с какой-то неодолимой силой, которая тянет тебя в пучину, и бороться с ней бесполезно, ее ничем не остановить, она поглощает тебя, и ты исчезаешь. Лежа мешком на бетоне, он покоряется ее воле, как прежде покорился волнам, накрывающим с головой.
(Хотя с волнами он все-таки боролся, до самого конца, вот.)
А потом изнеможение, пугавшее его с того момента, как открылись глаза, наконец берет верх, и он проваливается в беспамятство.
Глубже, глубже и глубже…
4
— Долго нам еще здесь тухнуть? — заканючила Моника на заднем сиденье. — Я совсем задубела.
— Твоя девушка когда-нибудь затыкается, Гарольд? — поддел Гудмунд, оглядываясь в зеркало.
— Не называй меня Гарольд! — огрызнулся Эйч вполголоса.
— Больше, значит, тебя ничего не возмутило? — Моника обиженно ткнула его в плечо.
— Ты же сама хотела с нами, развлечься, — напомнил Эйч.
— Ага, весело, прям обхохочешься. Битый час торчим у флетчеровского дома в ожидании, пока родичи Каллена улягутся и мы наконец умыкнем Младенца Христа. Ты, Гарольд, спец по развлекухе!
На заднем сиденье вспыхнул квадратик света, и Моника принялась демонстративно копаться в телефоне.
— Выключи! — велел Гудмунд, оборачиваясь с водительского сиденья и прикрывая экран рукой. — Заметят свет.
Моника выхватила у него телефон:
— Да ладно, тут никого кругом.
Она снова заскользила пальцем по экрану.
Гудмунд покачал головой и метнул сердитый взгляд на Эйча в зеркало. Странно. Все любят Эйча. Все любят Монику. Но почему-то лишь поодиночке, а вместе Эйч и Моника всех только бесят. Даже, такое ощущение, самих Эйча и Монику.
— Зачем он нам вообще сдался? — спросила Моника, не отрываясь от телефона. — Младенец Христос, в смысле. Серьезно. Это же, типа, богохульство, нет?
Гудмунд кивнул подбородком на лобовое стекло:
— А это, по-твоему, не богохульство?
Все уставились на масштабную рождественскую сцену, перекрывшую двор Флетчеров, словно группа захвата. Поговаривали, что миссис Флетчер метит не только в местную халфмаркетскую газету, но и гораздо выше — в теленовости Портленда, а может, даже Сиэтла.
Экспозиция начиналась с подсвеченной изнутри оленьей упряжки Санты из яркого оргстекла: тяжело груженные сани, висящие на тросах между домом и соседним высоким деревом, будто бы плавно приземлялись на крышу. Дальше — хлеще. Паутинные нити электрических гирлянд тянулись с каждого выступа, угла и карниза ко всем ближайшим веткам, ножкам и подпоркам. Трехметровые леденцовые трости стояли частоколом, из-за которого вальяжно помахивали прохожим механические эльфы. Сбоку возвышалась живая шестиметровая ель, вся в огнях, словно собор, а на газоне перед ней прыгал целый рождественский зоопарк (куда каким-то ветром занесло и носорога в красном колпаке).
На самом почетном месте красовался вертеп — из какой-то альтернативной истории, где Иисус родился в Лас-Вегасе. Мария, Иосиф, ясли, сено, мычащая скотина, кланяющиеся пастухи и ликующие ангелы словно застыли в танцевальной сцене из мюзикла.
Посреди этого скопища, прямо в луче света по центру, воздевал ручки Младенец с золотым нимбом, неся человекам благоволение. Ходили слухи, что он вырезан из привозного венецианского мрамора. Чушь собачья, как потом выяснилось.
— Он из них самый подъемный, этот Младенец, — объяснил Эйч Монике, которая уже не слушала.
— Хватаем — и деру, — добавил Гудмунд. — Не носорога же кантовать. Хотя он-то здесь явный неформат.
— А потом зароем по пояс у кого-нибудь на газоне. — Эйч задрал руки, изображая, как благословляет человеков торчащий из земли Младенец.
— И вуаля! — ухмыльнулся Гудмунд. — Рождественское чудо.
Моника закатила глаза:
— А нельзя просто амфа нюхнуть, как нормальные люди?
Машина затряслась от хохота. Да, жизнь сильно наладится, когда Моника с Эйчем наконец разбегутся.
— Уже одиннадцать почти, — глянув в телефон, сообщила Моника. — Ты же вроде говорил…
И тут наступила темнота — вся флетчеровская экспозиция разом погасла в соответствии с окружным распоряжением о комендантском часе, которое соседи выбивали через суд. Даже сюда, на удаленную гравийную дорожку, донеслось огорченное «у-у-у» из припозднившихся машин, которые весь вечер тянулись мимо неторопливым потоком.
(Каллен Флетчер, долговязый и нескладный, с самого Дня благодарения до Нового года старался слиться в школе со стенами. Обычно получалось плохо.)
— Ну вот. — Гудмунд потер руки. — Теперь пусть машины рассосутся, и за дело.
— Это кража, если что, — напомнила Моника. — Они с этой экспозицией носятся, как курица с яйцом, а тут вдруг раз — и Иисус пропал…
— Вот вони-то будет, — расхохотался Эйч.
— Ага, жди! Молча в суд подадут, — возразила Моника.
— Да мы же недалеко его утащим, — успокоил Гудмунд и хитро прищурился. — К Саммер Блейдон, например, будет у них в доме хоть кто-то невинный.
Моника округлила глаза в ужасе, но потом не удержалась и хихикнула.
— Тогда нужно поаккуратнее, чего доброго, нарвемся на какую-нибудь ночную чирлидерскую тренировку.
— А кто секунду назад нас стращал судом? — поинтересовался Гудмунд.
— Я, — беспечно пожала плечами Моника. — И что? Я же не говорила, что не участвую.
— Эй! — одернул ее Эйч. — Ты к нему до утра будешь клеиться?
— Так, заткнулись все! — велел Гудмунд. — Почти пора.
Воцарилась тишина, которую нарушал только скрип ткани по стеклу: Эйч протирал рукавом запотевшее окно. Гудмунд от нетерпения дергал коленом. Машины постепенно редели, но в салоне по-прежнему стояла тишина, потому что все, сами того не замечая, затаили дыхание.
Наконец улица опустела. На крыльце Флетчеров погас свет.
Гудмунд, протяжно выдохнув, с серьезным видом повернулся назад. Эйч кивнул в ответ:
— Погнали.
— Я с вами, — подала голос Моника, убирая телефон.
— Никто и не сомневался, — ухмыльнулся Гудмунд и посмотрел на сидящего рядом, в пассажирском кресле: — Готов, Сет?