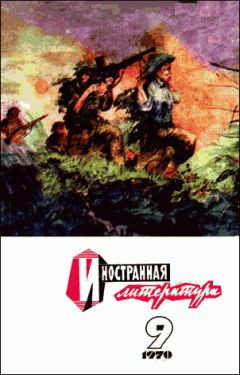Уильям Фолкнер - Непобежденные
Так что Ринго и я опять присели по бокам камина -- холодного, пустого -и тихо стали дожидаться, и бабушка пристроилась с шитьем к столу, к лампе, а отец сел в кресло на всегдашнем своем прикаминном месте, скрестивши ноги, оперев задки волглых сапог там, где старые от них следы на решетке, и жуя табак, взятый у Джоби заимообразно. Джоби куда постарше отца возрастом и потому перехитрил войну -- запасся табаком В штат Миссисипи он приехал с отцом из Каролины; он был бессменным отцовским слугой, а на нескорую смену себе растил, готовил Саймона (Ринго -- сын Саймона). Но война ускорила лет на десяток вступление Саймона в должность, и Саймон ушел на войну денщиком отца, а сейчас остался в эскадроне, в Теннесси. И вот мы сидим ждем, когда же начнется рассказ; уже и Лувиния в кухне кончает стучать посудой, и я подумал, что отец хочет, чтобы и она, управившись, пришла послушать, и спросил отца пока что:
-- Разве возможно вести войну в горах, папа?
И оказалось, отец только того и ждал (но не в желательном для меня и Ринго смысле).
-- В горах воевать невозможно, -- сказал он. -- Однако приходится. А теперь ну-ка, мальчики, спать.
Мы поднялись наверх. Но в спальню нашу не пошли; сели на верхней лестничной ступеньке, куда уже не доходит свет лампы, горящей в холле, и стали оттуда глядеть и вслушиваться в то, что доносилось из-за двери кабинета; немного погодя Лувиния прошла внизу по холлу, не заметив нас, и вошла в кабинет; нам слышно было, как отец спросил ее:
-- Готов сундук?
-- Да, сэр. Готов.
-- Скажи Люшу, пусть возьмет фонарь и заступы и ждет меня в кухне.
-- Слушаю, сэр, -- сказала Лувиния. Вышла, пересекла холл, снова не взглянув на лестницу, а обычно она идет за нами наверх неотступно и, вставши в дверях спальни, бранит нас, покуда не ляжем -- я в кровать, а Ринго рядом, на соломенный тюфяк. Но сейчас ей было не до нас и не до нашего непослушания даже.
-- А я знаю, что там, в сундуке, -- шепнул Ринго. -- Серебро. Как по-твоему...
-- Тсс, -- сказал я.
Было слышно, как отец говорит что-то бабушке. Потом Лувиния опять прошла через холл в кабинет. Сидя на ступеньке, мы прислушивались к голосу отца -- он рассказывал что-то бабушке и Лувинии.
-- Виксберг? -- шепнул Ринго. В тени, где мы сидим, его не видно; блестят только белки его глаз. -- Виксберг ПАЛ? То есть рухнулся в Реку? И с генералом Пембертоном вместе?
-- Тссс! -- сказал я.
Сидя бок о бок, мы слушаем голос отца. И, может, темнота нас усыпила, унесло нас снова перышками, мотыльками прочь или же мозг спокойно, твердо и бесповоротно отказался далее воспринимать и верить, -- потому что вдруг над нами очутилась Лувиния и трясет нас, будит. И не бранит даже. Довела до спальни, стала в дверях и не зажгла даже лампы, не проверила, разделись мы или упали в сон не раздеваясь. Возможно, это голос отца звучал в ее ушах, как в наших звучал и путался со сном, -- но я знал, ее гнетет иное; и знал, что мы проспали на ступеньках вынос сундука, и он уже в саду, его закапывают. Ибо мозгу моему, отказавшемуся верить в поражение и беду, мерещилось, будто видел я фонарь в саду, под яблонями. А наяву или во сне видел, не знаю -- потому что наступило утро, и шел дождь, и отец уже уехал.
3
Уезжал он, должно быть, уже под дождем, который и все утро продолжался, и в обед -- так что незачем и вовсе будет выходить сегодня из дому, пожалуй; и наконец, бабушка отложила шитье, сказав:
-- Что ж. Принеси поваренную книгу, Маренго.
Ринго принес из кухни книгу, мы с ним улеглись на ковре животом вниз, а бабушка раскрыла книгу.
-- О чем будем читать сегодня? -- сказала она.
-- Читай про торт, -- сказал я.
-- Что ж. А о каком именно?
Вопрос излишний -- Ринго, и не дожидаясь его, сказал уже:
-- Про кокосовый, бабушка.
Каждый раз он просит читать про кокосовый торт, потому что нам с ним так и неясно, ел Ринго хоть раз этот торт или нет. У нас пекли торты на Рождество перед самой войной, и Ринго все припоминал, досталось ли им в кухне от кокосового, и не мог припомнить. Иногда я пытался ему помочь, выспрашивал, какой у того торта вкус был и вид, -- и Ринго уже почти решался мне ответить, но в последнюю минуту передумывал. Потому что, как он говорит, лучше уже не помнить, отведал или нет, чем знать наверняка, что и не пробовал; если окажется, что ел он не кокосовый, то уж всю жизнь не знать ему кокосового.
-- Почитать еще разок -- худа не будет, я думаю, -- сказала бабушка.
Ближе к вечеру дождь перестал; когда я вышел на заднюю веранду, сияло солнце, и Ринго спросил, идя следом:
-- Мы куда идем?
Миновали коптильню; отсюда видны уж конюшня и негритянские хибары.
-- Да куда идем-то? -- повторил он.
Идя к конюшне, мы увидели Люша и Джоби за забором, на выгоне, -- они вели мулов снизу, из нового загона.
-- Да идем-то для чего? -- допытывался Ринго.
-- Следить за ним будем, -- сказал я.
-- За ним? За кем за ним?
Я взглянул на Ринго. Он смотрел на меня в упор -- молча, блестя белками глаз, как вчера вечером.
-- А-а, ты про Люша, -- сказал он. -- А кто велел, чтоб мы за ним следили?
-- Никто. Я сам знаю.
-- Тебе что -- сон был, Баярд?
-- Да. Вечером вчера. Прислышалось, будто отец велел Лувинии следить за Люшем, потому что Люш знает.
-- Знает? -- переспросил Ринго. -- Что знает? -- Но вопрос тоже излишний, и он сам ответил, поморгав своими круглыми глазами и спокойно глядя на меня: -- Вчера. Когда он повалил наш Виксберг. Люш знал уже тогда. Все равно как знал, что не в Теннесси теперь хозяин Джон. Ну, и про что еще тебе тот сон был?
-- Чтоб мы за ним следили -- вот и все. Люшу известно станет раньше нас. Отец и Лувинии велел следить за ним, хоть Люш ей сын, -- велел Лувинии еще немного побыть белой. Потому что если проследить за ним, то сможем угадать, когда оно нагрянет.
-- Что нагрянет?
-- Не знаю.
Ринго коротко вздохнул.
-- Тогда так оно и есть, -- сказал он. -- Если б тебе кто сказал, то, может, это были б еще враки. Но раз тебе сон был, это уже не враки -- некому было соврать. Придется нам следить за ним.
Мы принялись следить; они впрягли мулов в повозку и спустились за выгон, к вырубке, возить наготовленные дрова. Два дня мы скрытно следили за ними. И тут-то почувствовали, под каким всегдашним бдительным надзором Лувинии сами находимся. Заляжем, смотрим, как Люш и Джоби грузят повозку, -и слышим тут же, что она надрывается, кличет нас, и приходится отходить незаметно вбок и бежать потом к Лувинии с другого направления. Иногда у нас не было времени сделать крюк -- она застигала нас на полпути, и Ринго прятался мне за спину, а она бранила нас:
-- Вы что крадетесь? Не иначе, озорство какое затеяли. Признавайтесь, сатанята.
Но мы не признавались, шли за ней, бранящейся, до кухни, и, когда она туда скрывалась, снова тихо уходили с глаз долой и бежали следить за Люшем.
И на второй день вечером, засев у хибары, где живут Люш с Филадельфией, мы увидели, как он вышел оттуда и направился к новому загону. Прокравшись за ним, услышали в потемках, как он поймал и вывел мула и поехал верхом прочь. Мы пустились следом, но когда выбежали на дорогу, то слышен был лишь замирающий топот копыт. А пробежали мы порядочный кусок, так что даже зычный клич Лувинии донесся до нас слабо, еле-еле. Мы постояли в звездном свете, глядя в даль дороги.
-- На Коринт ускакал, -- сказал я.
Вернулся он лишь через сутки, опять в потемках. А я и Ринго чередовались: один оставался у дома, другой наблюдал у дороги, -- чтобы Лувиния не надсаживалась в крике с утра до ночи, не видя нас обоих. А наступила уж ночь; Лувиния загнала нас было в спальню, но мы снова выскользнули из дому и крались мимо Джобиной хибары, как вдруг дверь ее отворилась -- вынырнувший из темноты Люш шагнул туда, в светлый проем. Люш возник совсем рядом, я почти бы рукой мог дотронуться, но он нас не заметил; на миг, внезапно, как бы повис в проеме двери на свету, точно из жести вырезанный силуэт бегущего, и нырнул в хибару, дверь черно захлопнулась -- мы так и застыли. А когда глянули в окошко, он стоял там у огня -- одежа изорвана, в грязи -- ему пришлось ведь прятаться в болотах и низах от патрулей, -- а на лице опять это хмельное выражение (хоть он и не выпил), точно он давно уже без сна и спать не хочет, а Джоби и Филадельфия подались лицами вперед, в отсветы огня, и смотрят на Люша, и рот у Филадельфии открыт, и то же у нее бессонное, хмельное выражение. И тут дверь открылась опять; это Лувиния. Как она шла за нами, мы не слышали, -- и встала, взявшись за дверной косяк и глядя на Люша с порога, а старую отцову шляпу снова не надела.
-- И, говоришь, освободят нас всех? -- сказала Филадельфия.
-- Да, -- сказал Люш, гордо откинув голову.
-- Тихо ты! -- шикнул Джоби, но Люш и не взглянул на него.
-- Да! -- сказал Люш еще громче. -- Генерал Шерман идет и все перед собой сметает и сделает свободным весь народ наш! {17}
Лувиния в два быстрых шага подошла к нему и ладонью крепко хлопнула по голове.
-- Дурак ты черный! -- сказала она. -- По-твоему, на свете наберется столько янки, чтоб побили белых?