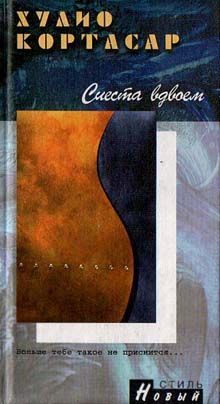Хулио Кортасар - Слюни дьявола
Я мог бы передать эту сцену подробнее, но не стоит труда. Женщина сказала, что никому не дано право фотографировать без разрешения, и потребовала отдать пленку. Она произносила слова твердо и четко, с явно парижским акцентом, быстро повышая голос и не стесняясь в выражениях. Собственно говоря, меня не слишком заботила судьба фотопленки, но каждый, кто меня знает, давно убедился, что со мной лучше говорить по-хорошему. А потому я ограничился тем, что сообщил ей, мол, фотографирование в общественных местах не только разрешено, но весьма поощряется властями и частными лицами. Во время своей краткой назидательной речи я успел злорадно насладиться зрелищем того, как мальчуган съежился, напружинился, не сходя с места, а потом вдруг (это показалось мне совсем невероятным) повернулся и бросился бежать. Бедняге, небось, казалось, что он отступает вполне достойно, хотя на самом деле он несся, как угорелый, миновал в три прыжка автомашину и растворился в утреннем воздухе, как те легкие паутинки, что зовут "нитями святой Девы".
Но нити святой Девы называют и по-другому - "слюни дьявола", и Мишелю пришлось выдержать град обрушившихся на него проклятий, выслушать, какой он мерзавец, лезущий в чужие дела, а он только тихо посмеивался и, покачивая головой, молча отвергал нелепые обвинения.
Когда мне уже стало невмочь слушать ее диатрибу, послышалось, как хлопнула дверца машины. Мужчина в серой шляпе стоял и смотрел прямо на нас. Тут только до меня дошло, что и он участвует в этой трагикомедии.
Мужчина приближался к нам, держа в руках газету, которую якобы читал в машине. Мне врезалась в память его гримаса, растянувшая рот до ушей, сморщившая щеки и вызвавшая какое-то излишнее мускульное напряжение, ибо губы его дрожали в этой страшной усмешке, дергавшей то правый уголок рта, то левый. как нечто существующее само по себе, не признающее чужую волю. При этом его физиономия оставалась неподвижной - присыпанное мукой лицо клоуна, бескровная маска из жатой кожи, глубокие глазницы и черные большие ноздри, более черные, чем брови или волосы. или черный узел галстука. Он шел, бережно передвигая ноги, будто боясь оступиться. Я заметил, что на нем были лакированные туфли с такой тонкой подошвой, что, видимо, ощущался каждый изъян дороги. Не знаю, почему я сполз с парапета, не помню, почему решил не отдавать им пленку, противиться требованию, в котором сквозили страх и тревога. Клоун и женщина молча взирали друг на друга. Мы трое составляли абсолютно несообразный треугольник, нечто такое, что должно было лопнуть с треском. Я им рассмеялся в лицо и отправился восвояси, наверное не намного медленнее, чем тот юнец. За железным мостиком возле первых домов я оглянулся. Они словно застыли на месте, газета валялась у ног мужчины, а женщина, прислонившись спиной к парапету, нервно возила ладонями по каменной стенке, - классические беспомощные движения загнанного, ищущего спасения человека.
То, что было дальше, произошло не так давно здесь, в комнате на пятом этаже. Через несколько дней Мишель проявил снимки, сделанные в воскресенье. Консьержери и Сент-Шапель вышли неплохо. Следующими были два-три пробных кадра, о которых он уже не помнил, затем - неудачная попытка запечатлеть кота, чудом забравшегося на крышу общественного туалета, и - снимок рыжей женщины с подростком. Негатив оказался великолепен, и фотография была увеличена, увеличенное фото оказалось настолько впечатляюще, что Мишель сделал еще один отпечаток, огромный, почти с афишу. Тогда он не видел (а теперь вопрошает - почему?), что только кадр с Консьержери заслуживает такого труда. Из всех отснятых кадров его интересовал только один, моментальный снимок, сделанный в сквере у берега Сены. Он повесил огромную фотографию на стену и в первый день долго глядел на нее и вспоминал, отдаваясь процессу меланхолического сравнения живых картин памяти с этой канувшей в Лету реальностью, с этим окаменевшим воспоминанием, каким является любое фото, где ничто не упущено, ни, кажется, даже это самое "ничто", заключающее в себе истинный смысл отображенной сцены. Вот женщина, вот мальчик, прямое дерево рядом с ними и небо такое же контрастное, как каменный парапет, тучи и камни, слитые воедино (вот подползает туча с острыми краями, надвигается, как предвестник грозы). первые два дня я с удовлетворением поглядывал то на маленький снимок, то на увеличенное изображение на стене и даже не задавался вопросом, - почему это я то и дело отрываюсь от перевода трактата Хосе Норберто Альенде, чтобы взглянуть на лицо женщины, на темные камни парапета. Не обошлось и без забавного открытия: раньше я не думал о том, что когда мы смотрим на фотографию прямо, наши глаза точно воспроизводят положение фотокамеры. Это одна из тех общеизвестных истин, на которые не обращают внимания. Сидя в кресле за пишущей машинкой, я вдруг подумал, что нахожусь как раз там, откуда был нацелен на парочку объектив аппарата. Прекрасная позиция, ракурс для обозревания фото был, без сомнения, удачен, хотя, если смотреть на него сбоку, наверное, тоже можно увидеть что-нибудь интересное и даже новое. И вот всякий раз, когда мне не сразу удавалось передать на хорошем французском то, что Хосе Альберто Альенде излагал на хорошем испанском, я поднимал глаза на снимок. Иногда хотелось смотреть на женщину, иногда на мальчишку, иногда на дорогу, где сухой лист у обочины был как раз к месту для углубления фона. Я на какое-то время отрывался от машинки и опять с удовольствием погружался в атмосферу того утра, пропитывавшую снимок; вспоминал с ироничной усмешкой кипевшую от злости женщину и ее попытки отобрать пленку; смешной и патетичный побег мальчика, появление на сцене человека с белым лицом. В душе я был доволен собой, хотя ретировался оттуда не самым достойным образом. Говорят, что французы за словом в карман не лезут, и потому я до сих пор не вполне понимаю, почему мне захотелось уйти без всяких там громких заявлений о своих привилегиях, прерогативах и правах гражданина. Впрочем, главным, действительно самым главным в этом действе было помочь парню вовремя сбежать (если, конечно, мои умозрительные предположения верны, что отнюдь не доказано, хотя его бегство само по себе может служить тому доказательством). Своим невольным вмешательством я дал ему возможность употребить свой страх себе во благо, зато теперь он, наверное, раскаивается, чувствует себя посрамленным, не сумевшим доказать, что он настоящий мужчина. Но лучше подобное самобичевание, чем общество женщины, способной смотреть так, как она смотрела на него там. Мишель время от времени ощущает себя пуританином и полагает, что нельзя развращать малолетних. В любом случае этот фотоснимок сделал свое доброе дело.
Однако не это доброе дело заставляло меня через каждые три-четыре фразы перевода снова и снова вглядываться в снимок. В те минуты я не знал, почему смотрю на него, зачем повесил увеличенное изображение на стену; не иначе, думалось мне, судьба готовит какой-то сюрприз, а это все лишь прелюдия. Полагаю, и легкий трепет листьев на дереве не обеспокоил меня, я продолжал писать и благополучно закончил фразу. Наши привычки бессмертны, как цветы в гербарии, и потому огромный снимок - восемьдесят на шестьдесят - я подсознательно воспринимал как киноэкран, где у парапета женщина беседует с мальчиком, а над их головами, на дереве трепещет сухая листва.
Листва куда ни шло, но руки... Я написал: "Donc, le second le reside dans la nature intrinseque des difficultes que les societes..."* - и вдруг заметил, что женщина медленно, палец за пальцем, сжимает руку в кулак. И тут я перестал существовать, я умер, не было больше ни французского текста, навеки оборванного на полуслове, не было ни пишущей машинки, упавшей на пол, ни скрипящего и плывущего стула подо мной, - только туман. Мальчик вобрал голову в плечи, как обессиленный боксер в ожидании неотвратимого удара; он поднял воротник пальто и стал воплощением загнанной дичи, покорно ждущей конца. Женщина стала ему говорить что-то на ухо, ее кулак разжался, пальцы начали нежно, очень нежно гладить его по щеке, медленно опаляя лаской. Мальчик казался не столь испуганным, сколь встревоженным, и раза два стрельнул глазами через плечо женщины в сторону, а она все продолжала говорить, в чем-то его убеждать, а он все чаще смотрел туда, где, как знал Мишель, стояла автомашина с мужчиной в серой шляпе, которого не было на фотографии, но который отражался в глазах мальчика и (можно ли теперь сомневаться) жил в словах женщины, в руках женщины, в посреднической миссии женщины. Когда я увидел, как идет этот человек, как стоит возле них, - руки в карманах, злобный, требовательный хозяин, готовый свистнуть своей расшалившейся собаке, - я понял (лучше поздно, чем никогда) то, что должно было произойти в следующую минуту между этими людьми, которым я спутал карты, невольно вмешавшись в то, чего не случилось, но теперь должно было случиться, найти свое завершение. И то, что мне представлялось ранее, было менее страшным, чем эта действительность. Ибо женщина орудовала не в своих интересах, ласкала, обещала, приободряла не ради своего удовольствия, не для того, чтобы позабавиться с взъерошенным ангелочком, насладиться его робостью и пытливой неумелостью. настоящий хозяин ждал, плотоядно улыбаясь, уверенный в успехе дела, ибо он не первый и не последний, кто высылает женщину вперед, заманивать к нему пленников лаской и уговорами. Все остальное - проще простого: автомашина, какой-то дом, спиртное, возбуждающие средства, запоздалые слезы, жуткое пробуждение. И я ничего не мог поделать, на сей раз - абсолютно ничего. До сих пор моим главным оружием была фотография, вот эта, здесь, но те, кто на ней запечатлен, мстили мне, показывая, как все будет. Снимок сделан, время прошло; мы далеко друг от друга, совращение наверняка уже состоялось, слезы пролиты, остальное - предположения и грустные догадки. Ход событий неожиданно переменился - люди с фото жили, двигались, принимали решения и подчинялись решениям, шли к своему будущему, а я оставался с другой стороны, был узником другого времени, комнаты на пятом этаже, своего незнания того, кем были эта женщина, этот человек и этот мальчишка; узником линзы моего аппарата, чего-то недвижного, не способного к переменам. Теперь я сам стал жертвой оскорбительного осмеяния со стороны тех, кто принимал решения, ибо я был абсолютно бессилен; мальчишка мог снова оказаться лицом к лицу с белолицым клоуном, а я, зная, что он согласится, что клюнет на деньги или посулы, не мог крикнуть ему "беги!" или хотя бы помочь ему бежать, сделав новый снимок, осуществив свое ничтожное, косвенное вмешательство, которое обрушило бы карточный домик, скрепленный слюнями и духами. Все должно было решиться там в следующую минуту. Вокруг разлилась необъятная тишина, не имевшая ничего общего с тишиной обычной. Вот-вот все произойдет, все случится. Кажется, я закричал, заорал страшным голосом и в тот же миг ощутил, что стал к ним приближаться, - десять сантиметров, один шаг, второй шаг, дерево ритмично колыхало ветви на первом плане, серое пятно парапета исчезло из кадра, лицо женщины, обращенное ко мне и будто удивленное, становилось все крупнее, и тогда я чуть подался в сторону, вернее, отклонил объектив чуть в сторону, и не теряя из вида женщину, стал приближаться к мужчине, который вопрошающе и зло глядел на меня черными глазницами, зиявшими вместо глаз, глядел, будто хотел распять без креста, и в этот самый момент словно огромная птица, неизвестно откуда вырвавшись, вдруг заслонила сцену перед объективом, а я уткнулся лбом в стену своей комнаты и был рад до смерти, ибо мальчик успел удрать, я видел, как он убегает, видел в объективе, как он мчится, а ветер треплет ему волосы, несет над островом, над дорогой, возвращает в город. Он снова сбежал от них, я вторично помог ему удрать, вернул юнца в его зыбкий рай. Тяжело дыша, я стоял перед теми, кто оставался; больше не стоило рваться вперед, игра была сыграна. От женщины в кадре осталось только плечо и прядь рыжих волос, безжалостно отрезанная рамкой, но прямо в объектив смотрел мужчина, полуоткрыв рот, где дергался черный язык, и медленно тянул ко мне руки, все ближе и ближе, в какую-то секунду он оказался в фокусе, затем всей своей массой загородил вид на остров, на дерево, а я зажмурился, больше не желая ничего видеть, закрыл лицо руками и разрыдался, как дурак.