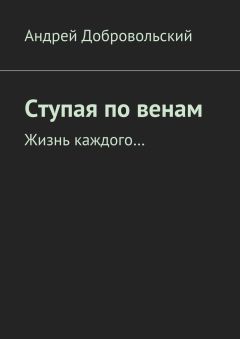Владимир Галкин - Вечера Паши Мосина
— Так! Так говоришь, царица-матушка! — визжат и блеют гости, топоча ногами по полу, стуча лапками по столу.
У тёти Клёпы угольные брови лезут вверх:
— Вот, Пашенька, гляди, как они меня любят.
— А вот Пашеньке, — вы ведь все его знаете (знаем! — ревут козлы), — он ведь у нас единственный оттуда, от людей с их глупыми, скупыми и насильными государствами. Он в рабах ходит у своих начальников, да только они не знают, что он — наш. Так говорю?
— Так, красавица! — говорю я.
— Наш он. Клятву давал. Он верит в нас. Да ведь вот — мы все перед ним. Наяву, а не во сне. Он никому не скажет… ну а скажет если — тут и смерть ему. Так, лапки-копытца, рожки-хвостики?
И глаза гостей вспыхивают грозным алым пламенем.
Я пригрелся у атласного бока женщины с длинной шелковистой бородой и не отрываясь смотрю в ночное окно, чорное, как сгоревшая бумага. Сплошная ночь, гнилая и сырая, ночь спящих, венчающихся и убивающих, ворочается над городом, над Балаевкой. Дубовым сном спят наработавшиеся, выпряженные люди. Может, только и снятся им страшные начальники да деньги, огромные, нечаянные. А что есть такая Балаевка с тайным тётиклёпиным домом, где сейчас знаменитый пир начнётся, — этого их сплюснутым мозгам и тряпочным сердечкам не представить даже, не пережить.
Везёт же мне, думаю я, сижу вот в тепле, слушаю исторические речи тёти Клёпы; сейчас водочку начнём пить, а то бы только и слушал в темноте тиканье ходиков да сопенье Марьи Васильевны…
— Слушайте же меня, Козлики Ночные! Так и выпьем ж за здоровье наше, за вечную, хитрую и такую славную нашу жизнь! За Великую Балаевку!
Люблю я вас! Чичир! Вали по лафитничкам да по рюмочкам шафранного, студёного, пьяненького…
Чичир раздает мужичкам бутылки, те льют, накладывают дамам салаты, колбаску, рыбку и лимончики.
Я лично наливаю себе высокую севастопольскую стопку водки на вишенках, ложу в овальный тазик осетра заливного и кучку хрена рядом, а также украшаю ломтик ситничка икоркой с маслом. Ну, всё вроде и готово…
Вокруг тоже идет сыр-бор… Грянули! Ах, вкусна, мамочка!
И вдруг раздаётся тонкое шипенье. Всё громче и сильнее оно, словно горит и приближается динамитный шнур. И — взрыв!
Вот это да! Узкая, длинная до потолка тётя Клёпа вспыхивает дымным пламенем и горит, потрескивает: яркая, красная, сказочная… А свет погас. Горят разноцветными огнями глаза, уши, когти-ногти гостей, словно ёлочные лампочки. Красиво!
— Дуй, компания! — дребезжит Бармалеич.
Мы легко вплёскиваем во рты мохнатые, губастые, и заедаем, заедаем… Постукивают зубы, похрустывают кости, двигаются едалищные жилы.
Мужик слева, всё лицо которого заросло курчавым волосом, как у зверя, рта не видно, носит длинную деревянную ложку в невидимое хайло и толкает меня локтем.
— Ну ты, эрдель, легче, — цежу я ему, обдирая осетрину с хрящей.
— М-м-м… — стонет мужик и достает гармонь, длинную, нахальную.
Домовые настраивают дудочки.
— Пи-пи-пи… пью-пью-пью… пу-у-у…
— Давай, Буряк, дави на кнопки!
— Веселись, Балаевка!
У скелета со сколиозом появляются в грабках чьи-то добела обглоданные кости. Он отстукивает ими по лысому темячку старичонки медленно-зловещий ритм. И гости начинают:
Тук-тук… Кто стучит?
Кто идёт?
Кто по камушкам шуршит?
Кто ползёт?
И чуть быстрее:
Ах, кого это нелёгкая
Несёт?
Не высовывайся, дядя,
Из ворот…
Ещё быстрее, и горящие глаза подмигивают ритму, подпрыгивают, как лучинки.
Это мы идём, стучим, шуршим,
Ползём —
Ваши окна, ваши двери
Разнесём!
Мы их когтем, зубом, волосом,
Слюной!
Мы такой народец, страшненький,
Ночной.
— И-и-и-и… — завыл кто-то тонко, истошно, создавая гнетущий фон. Эх, а домовые на дудочках стараются!
Жену с мужем на постели
Разведём,
И с погоста кости в гости
Приведём…
…И поют, бесятся эти пугала, и гармонь чешет под стук костей, стук цокающий, липкий, какой-то дешёвенький, но пугающий мотивчик. Вот уж две лягушки в ситцах откалывают с тритонами трепака, гнут коленца, хляпают перепонками…
Ох-х и-чохи-чохи-чохи-чохи-чох…
Я всю ночь под ним лежала,
А он сдох…
Полюбила пожилого,
Думала — угодник.
Вынимает из порток —
Точно сковородник…
Прочь! — стол к стене, посуда валится. Дед Губан обжирается зелёным горошком, высасывая его прямо из банки.
Всё быстрей и быстрей мелькают развевающиеся бороды, распахнутые ревущие рты, в лёгкой пене от веселья. А я сижу, привалясь к тёплому шерстяному мужику, постанывая от сладостной ломоты в теле, как замерзающий в горячей воде. Мужик щекочет мне висок своими излишествами и бормочет:
— Во веселимся! Это тебе не клуб.
Да, думаю я, етьбы-то тут и питья — как при… Хорошо. Очень хорошо.
Вы — товарищи легальные,
Копеечные,
Мы — граждане нелегальные,
Запечные.
Вы наложите кирпичик
По кирпичику:
Эх, халупочки высокие —
Красавицы!
А мы в щёлочку пролезем,
Зажжём спичку,
А мы дунем, а мы плюнем —
Всё повалится!
Они все уже в такой раж вошли, что водой не отольёшь, утираются, а у меня внутри ещё только тихо разливается пьяное тепло. Но я же сейчас ещё выпью. Опаньки… Кха… На брудершафт с мокрицей, на брудершафт с тётей Клёпой…
— Хорошо тебе у меня, Пашенька? — сладострастно, ласкающе спрашивает тётя Клёпа. Она наваливается на меня и колет зелёной грудью. Я не слышу, что она говорит, но догадываюсь по движению губ. Такая власть у этой бабы, однако лезет ко мне как простая падла. «А что ж, — думаю, — можно и совокупиться. Ведь дракон, а не женщина». Но отвечаю ей смиренно:
— Великолепно, тётя Клёпа! Это не клубный концерт художественной самодеятельности. Это — Бахчисарайский фонтан.
Её тащат плясать, сбивают с ног, обливают водкой. Если зажать уши, то слышишь какой-то банный шум:
Тра-та-та… тру-ту-ту…
Бу-бу-бу…
Чох-чох… жах-жах-жах…
И всё-таки как мне всё приятно… Нет, вам этого не понять. Так что я — пьян или нет? Пьян. Ах, как это хорошо — пьян! А дальше что?
А дальше всё идёт в тумане. Бармалеич притаскивает вдвоём с мясником огромный котёл, вроде тех, в которых готовят «кумушку». Там что-то есть и ужасно воняет. Гости бросили свой шабаш, сбежались к котлу. Ой, какой у них совсем кошмарный вид! Они лезут друг на друга, роняют слюни, урчат… А пахнет-то, Господи, п… покойничком… Бармалеич отгоняет их, а они захватывают куски падали и рвут на ходу. Тётя Клёпа — она всегда стесняется кушать этот продукт при мне — из-под тишка облизывает запачканные пальцы. Пальцы у неё уже все в крови.
Я отворачиваюсь.
…А вот теперь-то начинается настоящая Содомия. Сплошная Гоморра. Глаза выплёскиваются из орбит, мечутся, как болотные огни, мешаются в сплошное огненное месиво.
Вот, вот одна нечисть с тритоньими лапами вспрыгивает на другую, они носятся так в два этажа, дико визжа и совокупляясь. Щёлкают зубы, трещит разрываемая материя.
Я уже ничего не понимаю, меня отталкивают, а потом прижимают к столу так, что я сажусь на салат. В ногах гремят костями, — молча, страшно достигая оргазма, — голые скелеты одного, кажется, пола. Бармалеич с мыльной пеной бешенства вокруг рта отливает их водой.
А вот кто-то с размаху бьёт другого рогами в зад, вбивает его в стену, и тот исчезает в ней…
Полная темнота, только на полу струится какое-то зеленоватое тление.
— Ну иди… иди скорей… ну, скорей, скорей, милый… — Это шепчет, стуча зубами, тётя Клёпа. И расстёгивает мне брюки. Другая её рука гнёт мою шею, и мои губы погружаются в кисель, мычащий, пахнущий одновременно гнилостью и помадой.
— Ты хочешь, хочешь… — убеждает она меня и, вся трясясь, как в припадке эпилепсии, тянет на пол. Я по ошибке попадаю ей во что-то глубокое и горячее. Она с воем отшатывается к стене.
Я пытаюсь пробраться к окну, чтобы подышать свежим воздухом. Но там кто-то сидит. Оно вдруг бросается на меня сверху, садится на плечи. Я бью наугад в горящий глаз и быстро ползу по телам, хрюкающим от плоти и часто дышащим…
— А где моя баночка? — тонко тянет невидимый гидроцефал.
Пахнет серой.
![Сергей Галихин - Эра Водолея, или Каждый имеет право знать [СИ]](/uploads/posts/books/108058/108058.jpg)