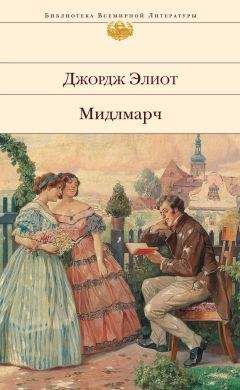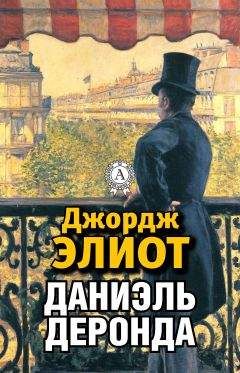Хуан Валера - Иллюзии Доктора Фаустино
Сказав это, девушка залилась горькими слезами, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку.
Донья Арасели была в растерянности. Она подумала о том, что неудачи преследуют ее во всем, что касается любовных дел, как тех, в которых она играла первую роль, так и в том, в котором она играла третью. Рок безбрачия преследовал ее. Это все понимали. Жестокая судьба гнала от нее бога Гименея. Раньше, в молодости, ей не удалось собственное замужество, теперь, в старости, ничего не вышло со сватовством. Вот какие печальные мысли теснились в ее голове, и она тоже расплакалась. Дуэт безутешно оплакивал несостоявшуюся любовь доктора Фаустино.
Казалось, это скорбят матери, как скорбели когда-то матери на острове Крите и на других островах, оплакивая кровных своих сыновей, которых вели к жертвеннику на заклание, чтобы умилостивить великих богов Кабуров[73] и других неумолимых духов преисподней, ревниво охраняющих сокрытые в недрах земли металлы.
Наконец, вдоволь наплакавшись, они утерли слезы и должны были признать, что делу ничем помочь нельзя.
В тот день, как всегда, светило яркое солнце. Потом пришла ночь, и были все звезды, и ни один цветок не уронил ни единого лепестка. Днем Констансия, как обычно, вышла на прогулку, а вечером принимала гостей. Она была спокойна, словно ничего не изменилось, как не изменились солнце, звезды и цветы.
Донья Арасели тоже пыталась скрыть дурное настроение, но сделать это так, как сделала Констансия, ей не удалось. По заведенному обычаю она села за карты. Проигрывая, донья Арасели всегда волновалась и сердилась, а в тот вечер – особенно. Она жаловалась на свою злую судьбу, вздыхала, сопела, а когда маркиз де Гуадальбарбо трижды не очень вежливо подтолкнул ее локтем, назвала его грубияном. Ее даже подмывало обозвать его шулером. Вот до какой степени донья Арасели потеряла власть над собой и забыла правила приличия!
В час пополуночи доктор в сопровождении Респетильи снова направился к садовой решетке. Донья Констансия запаздывала больше, чем обычно. Наконец она появилась, заплаканная, взволнованная и печальная.
– Фаустино, – сразу начала она, – отцу все известно. Не знаю, кто ему сказал. Он вырвал у меня обещание больше с тобой не встречаться. Отец решительно против нашей любви, и я не могу противиться его воле. Неумолимый рок разлучает нас. Забудь меня. Пожалей меня. Теряя тебя, я хочу открыть тебе мою душу. Я не могу больше скрывать: я люблю тебя!
Это «я люблю тебя» должно было подсластить горькую пилюлю плохо замаскированного отказа. Но доктор понял это «люблю тебя» (может быть, он и не ошибался: чужая душа – потемки) как самую главную правду в прощальных словах доньи Констансии. Он тут же сказал, что похитит ее, увезет ее хоть сейчас, и заверил, что из любви к ней готов преодолеть все трудности и не побоится гнева сильных мира сего.
С необычайной ловкостью, не оскорбляя самолюбия доктора, донья Констансия старалась доказать, что планы умыкания и свадьбы без отцовского благословения и уединенная жизнь в Вильябермехе – чистый бред. Она пыталась также убедить, что отец, противясь их любви, прав, что они, даже сильно любя друг друга, будут несчастливы, став мужем и женой, что само небо отвергнет подобный союз, что перед доктором открыта дорога к славе и к счастью, тогда как она, вместо того чтобы дать ему крылья для полета, станет ему обузой, набросит на него такие тяжелые кандалы, что он едва сможет волочить ноги.
В общем, Констансия говорила красноречиво, вдохновенно и была ослепительно хороша. Жаль, что я сейчас не в ударе и не могу точно передать все то, что она говорила. Ее речь могла бы служить образцом и примером для тысячи подобных речей, которые часто вынуждены произносить девушки.
Несчастный доктор, несмотря на то, что чувствовал себя опустошенным, покинутым, попранным, должен был благодарить Констансию.
Не надо думать, что Констансия была расчетливой кокеткой, бессердечной обманщицей и лицемеркой. И утром, в разговоре с теткой, и вечером, беседуя с доктором, она была сама искренность и невинность. Она не лукавила, говоря, что любит доктора, ибо действительно любила его илюбила пылко, но прежде всего она любила себя, свой привычный комфорт, была по-женски тщеславна, мечтала блистать в свете и добиться успеха в обществе.
Даже убежденность Констансии в том, что ее душа родственна душе доктора в том смысле, что их обоих обуревают страстные противоречия, терзают противоборствующие чувства, делала кузена в ее глазах симпатичным, Такого человека можно было любить и даже обожать. Но больше всего она любила его за то, что отказывала ему и прогоняла его от себя.
– У меня разрывается сердце, – говорила донья Констансия, – но нам нельзя больше встречаться, мы должны забыть безумство последних дней, эту мимолетную иллюзию любви, любви опасной и нечистой.
Так, погружая кинжал в сердце своей жертвы, она увенчивала ее утешительными цветами.
Голос ее дрожал и прерывался от рыданий и всхлипываний. По щекам катились крупные слезы.
И тут произошло событие, которое, по мнению доньи Арасели, должно было случиться раньше. Оно случилось – ничего не поделаешь. Донья Констансия, не переставая плакать, приблизила свой чистый, невинный лоб к самой решетке, и доктор в величайшем волнении запечатлел на нем поцелуй.
– Прощай, Фаустино, прощай! – сказала Констансия, собираясь уже уходить.
– Ты покидаешь меня. Это жестоко! – воскликнул дон Фаустино.
– Так надо. Это веление судьбы. Прощай и не презирай меня.
– Презирать… тебя? Никогда. Пусть бог даст мне силы разлюбить тебя.
– Разлюби меня. Полюби другую, более достойную, чем я, более счастливую, чем я. Но сохрани обо мне приятное воспоминание. Прощай, дружок.
Констансия отошла от решетки и исчезла вместе с Maнолильей, которая только что любезничала с верным оруженосцем доктора Фаустино, едва сдерживая слезы. Но когда он пришел к себе и остался один, он много плакал и дурно провел остаток ночи.
На следующее утро, сказав, что он получил письмо от матери и что она нездорова, стал поспешно готовиться к отъезду.
После церемонии прощания с дядей доном Алонсо и с кузиной Констансией, распределив пятьсот реалов между слугами, приняв в качестве утешительной компенсации миллион поцелуев от плачущей тетки Арасели, доктор отбыл в Вильябермеху в сопровождении Респетильи, погонявшего мула, груженного баулами с двумя мундирами и прочим нарядным платьем, которое так и не пригодилось.
Пусть едут они в мире и спокойствии, если это только возможно, а мы будем молить бога, чтобы он ниспослал доктору силы и мужество пережить грядущие горести и печали.
Мы с читателем задержимся еще на несколько дней в родном городе Констансии и поведаем о событиях первостепенной важности для нашей правдивой истории.
XII
Маркиз де Гуадальбарбо
Человеку, именем которого названа настоящая глава, было около пятидесяти; он был вдов, детей не имел, и доход его составлял двадцать пять тысяч дуро в год.
Старый феодальный замок Гуадальбарбо располагался на обширных и плодородных землях, откуда, по рассказам маркиза, его пращуры в течение шести-семи веков свершали набеги против мавров. Злые языки утверждали, что дед маркиза был сборщиком податей; разбогатев при Карле III,[74] он купил землю и несколько ферм; отец маркиза получил титул позже и добился этого благодаря умению развлекать королеву Марию Луизу[75] разными остроумными шутками и проделками. Как бы там ни было – то ли ценой кровопусканий в борьбе с неверными, то ли за счет слез и пота верных христиан, то ли благодаря умению развлечь королеву и вызвать ее улыбку, – Гуадальбарбо оказался обладателем титула маркиза и ренты. Это достоверно известно, а откуда и как они появились, не так уж важно.
Маркиз унаследовал от отца веселый нрав, остроумие и обходительность, которые оказались в свое время очень полезными, но, по существу, это был человек серьезный, сдержанный и даже суровый. Его старшая сестра, графиня дель Махано, была святой женщиной; он постоянно советовался с нею, а вся ее жизнь служила ему образцом и примерам для подражания.
Желая осмотреть свои владения и отвлечься хотя бы ненадолго от придворных интриг и суеты столичной жизни, маркиз предпринял эту поездку и заехал к дону Алонсо, с которым у него были хозяйственные дела.
Уже месяц, как он находился здесь, и графиня дель Махано буквально ломала голову, стараясь найти причину столь длительной отлучки. Маркиз писал редко и в письмах был лаконичен.
Однако по истечении десяти дней после отъезда доктора Фаустино он разразился длинным посланием к сестре, которое мы приводим здесь целиком.
В письме говорилось:
«Дорогая сестра! Когда я объясню тебе причины моего затянувшегося пребывания здесь, ты перестанешь удивляться. Ты сама постоянно говорила мне о безалаберности столичной жизни, о распущенности нравов, о сварах и ссорах, происходящих при дворе, и сама побудила меня поехать в деревню и пожить среди простых, неиспорченных людей.